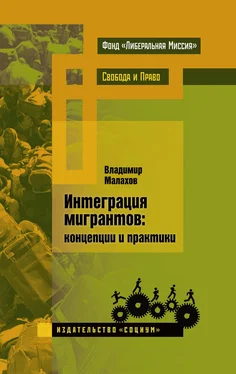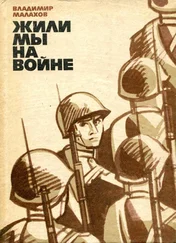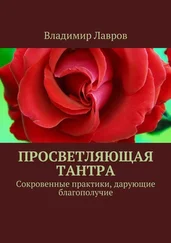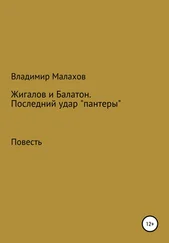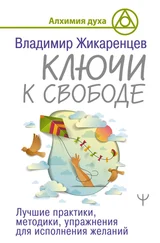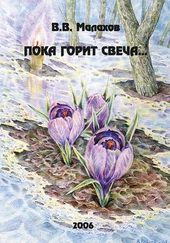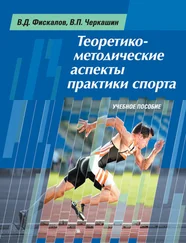Проблематика интеграции мигрантов чрезвычайно многомерна. С одной стороны, мигранты выступают в качестве объекта управления, а их интеграция – в качестве результата усилий специально занятых этим институтов. Это административный аспект интересующей нас проблематики. С другой стороны, мигранты – субъект социального действия. Различные индивиды и группы из числа новоприбывшего населения вступают в контакт с индивидами и группами из числа старожильческого населения. Анализ взаимодействия этих индивидов и групп выводит нас к политическому аспекту интеграции мигрантов. Каждому из этих аспектов посвящен отдельный раздел настоящей книги (причем раздел, трактующий политическую сторону дела, предшествует разделу, рассматривающему административную сторону). В промежутке между этими разделами книги помещена часть, сосредоточенная на нормативных и культурных аспектах интеграционной проблематики.
Нет нужды излагать здесь содержание дальнейших страниц. Отметим лишь, что тема интеграции мигрантов поднимается там и тогда, где и когда с ней возникают проблемы. Когда в этой сфере все идет своим чередом, подобные вопросы общество не волнуют. Приезжающие из-за границы люди постепенно вписываются в жизнь принимающего общества – и адаптируясь к нему, и трансформируя его. Ситуации «провала интеграции», о которых любят поговорить популисты, уместно рассматривать как то, что оттеняет многочисленные случаи успешной интеграции. Озабоченность старожилов тем, что интеграция новоприбывшего населения пробуксовывает, свидетельствует о том, что этот процесс идет.
Часть I
Интеграция мигрантов: концептуальное измерение
Глава I. Проблематичность исходных понятий
Иммигранты, мигранты и феномен международных миграций
В обыденном языке слова «иммигрант» и «мигрант» употребляются как синонимы. Это противоречит толковым словарям. Последние велят называть иммигрантами граждан одного государства, прибывших на постоянное (или долговременное) жительство на территорию другого государства, а мигрантами – людей, сменивших место жительства в пределах территории государства, гражданами которого они являются. В нижеследующем изложении тем не менее оба термина будут использоваться как взаимозаменяемые.
Основная причина, побудившая меня пойти на такую вольность, носит методологический характер. Дело в том, что само различие между «внутренними» и «внешними» мигрантами возникает тогда, когда мы смотрим на феномен миграции сквозь государствоцентричную призму. Однако если посмотреть на него из перспективы мировой экономики, то миграции населения – как внутри, так и поверх государственных границ – элемент глобальной трудовой мобильности. Это в первую очередь перемещения работников из мирового Села в мировой Город, обусловленные урбанизацией. Кроме того, это социально-географическая мобильность высококвалифицированных специалистов. А они ищут (и часто находят) работу независимо от территории своего актуального жительства. Таким образом, мигранты – это любые работники, которые трудятся не в том месте, в котором родились и выросли, будь то их родное село, родной город или родная страна [12] Мы здесь отвлекаемся от другой составляющей глобальных миграционных потоков – политической. Определенная часть людей, решающихся эмигрировать, делает это под давлением форс-мажорных обстоятельств: гражданской войны, революции и т. д. Это беженцы и соискатели политического убежища. Главное отличие между миграциями этого типа и трудовой миграцией в их вынужденном характере.
.
Таким образом, противодействие обыденного языка различению между мигрантами и иммигрантами таит в себе глубокий смысл. Ведь те, кто с точки зрения страны въезда являются им мигрантами, выступают как э мигранты с точки зрения страны выезда. Но они в любом случае являются мигрантами . Язык стихийно отбрасывает лишнее. Более того, язык улавливает тенденцию, которую социологи миграции называют транснационализмом. Транснационализм представляет собой как раз такую перспективу анализа, которая преодолевает центрированность исследовательского взгляда на нациях-государствах. В самом деле, в сегодняшнем мире физическое перемещение из одной страны в другую не несет с собой последствий, с какими оно было сопряжено еще полвека назад. Если в прежние времена эмиграция означала практически полный разрыв с родиной, то сегодня это не так. Во-первых, после окончания холодной войны, когда почти все государства заявили о своей приверженности демократии, эмиграция превратилась из экзистенциального решения (иногда, впрочем, навязанного) в рутину [13] Читателям, не заставшим советские времена, возможно, стоит напомнить о том, что выезд граждан СССР за пределы страны на постоянное жительство был крайне затруднительным; в то же время государство оставляло за собой право высылать отдельных своих подданных, лишив их гражданства. Наиболее громкие истории такого рода связаны с именами Александра Солженицына и Василия Аксенова. Невозвращенцем на излете советского режима оказался также Андрей Тарковский.
. Во-вторых, современные средства коммуникации, от телефона до интернета, позволяют поддерживать связь со страной исхода после отъезда, а современные средства транспорта делают возможными достаточно регулярные посещения родственников и друзей. Но дело даже не в том, что мигранты, однажды покинув страну, могут туда вернуться (на время или навсегда). Дело прежде всего в том, что в наши дни мигранты выстраивают сети взаимодействия поверх национально-государственных границ. В этом смысле они живут в особом – транснациональном – пространстве [14] Парадигму транснационализма в исследованиях миграции разрабатывают Алехандро Портес, Стивен Вертовек, Томас Файст и др. См.: ‘Transnational Communities’ // Ethnic and Racial Studies /Special issue ed. by A. Portes, L.E. Guarnizo, P. Landolt. 1999. Vol. 22, N 2; Rethinking Migration: New Theoretical and Empirical Perspectives /ed. by A. Portes, J. DeWind. N.Y.: Berghahn Books, 2007; Faist T. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford: Oxford University Press, 2000; Vertovec S. Migrant Transnationalism and Modes of Transformation // International Migration Review. 2004. Vol. 38, N 3. P. 970–1001. О попытках преодоления методологического национализма в теоретической социологии см.: Delanty G. The Cosmopolitan Imagination: The Renewal of Critical Social Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009; Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма: новая всемирно-политическая экономия. М.: Территория будущего: Прогресс-традиция, 2007. С. 17–63.
.
Читать дальше