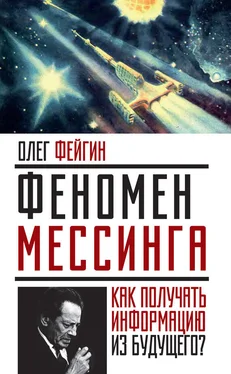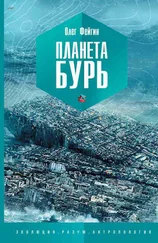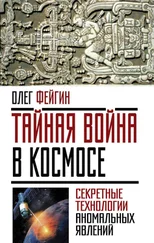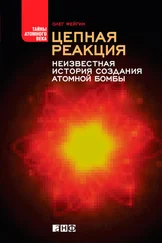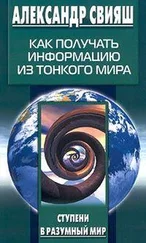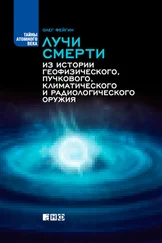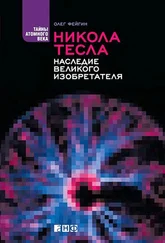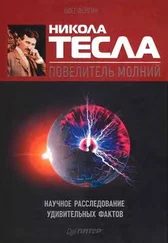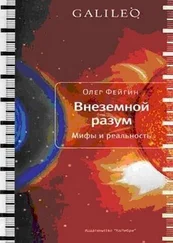Комментируя эту гипотезу, Юрий Владимирович эмоционально восклицает:
«Я далек от мистики. Она чужда мне! Все гораздо проще! Жизнь торовата на такое, что даже и в кошмарном сне не всегда присниться может! Я и не думал никогда, что буду жадно искать отдельные бумаги, документы, публикации, воспоминания, высказывания, даже слова и фразы, тем или иным образом относящиеся к монаху Авелю, его жизни, делам, предсказаниям. А вот поди ж ты! Ищу… тоже не сплю ночами, думая о нем, правдолюбце, патриоте, соотечественнике, умнице, напоминающем мне Юлиуса Фучика своей поистине непреодолимой убежденностью в собственной правоте, правоте своего дела! Это был сильный, достойный, честный и мужественный человек, готовый на смерть за свои идеи и убеждения! Да будет ему земля пухом!»
Кем же он был, этот прорицатель Авель?
Между тем все «творческое наследие» монаха еще в 1875 году было подытожено известным русским историком, журналистом и общественным деятелем, организатором, издателем и редактором знаменитого журнала «Русская старина» Михаилом Ивановичем Семевским (1832–1892) в статье «Предсказатель монах Авель»:
«Мы имеем возможность ответить на этот вопрос (кем был прорицатель Авель? – О.Ф. ), так как располагаем документами, относящимися к личности Авеля. Документы эти следующие: 1) Две тетрадки в малую 8-ю долю, написанные по-славянски: на первой странице этих «книжек» изображены разные кружки, литеры славянской азбуки и точки треугольником, среди которых написано; «Печать Господа Бога и Христа Его». В этих тетрадках содержится: а) «Житие и страдание отца и монаха Авеля»; б) «Жизнь и житие отца нашего Дадамия»; в) «Сказание о существе, что есть существо Божие и Божество»; г) «Бытие: книга первая». В одной из этих тетрадок на 26 страницах находятся разные символические круги, фигуры с буквами славянской азбуки и счета, при них находится краткое толкование. 2) Тетрадка (в 16-ю долю) в двух экземплярах, озаглавленная: «Церковныя потребы монаха Авеля»; в ней сокращенно изложена «Книга бытия», помещенная в двух первых тетрадках. 3) 12 писем Авеля к графине Прасковье Андреевне Потемкиной, написанных то по-славянски, то обыкновенным почерком; все письма относятся к 1815–1816 гг. 4) Письмо Авеля к В. Ф. Ковалеву, управляющему фабрикой П. А. Потемкина в Глушкове (1816 г.). Всем этим материалом мы нашли удобным воспользоваться таким образом, что сначала помещаем жизнеописание Авеля в подлиннике, с изменением только самых крупных орфографических неправильностей и с пропуском некоторых мистических измышлений; затем обращаем внимание на статьи Авеля, заключающиеся в упомянутых тетрадках, наконец говорим о письмах его. Из последних документов мы выписываем лишь наиболее характерные места».
Тут является самоочевидным, что уже сам перечень документов, находящихся в открытом доступе, как и сам факт публикации в широко известном журнале «Русская старина», ставит под большое сомнение тезис о зловещей цензуре. Как бы ни был небогат перечень документов Семевского, он содержал использованную в статье информацию в форме выдержек, исторических справок и комментариев, вполне достаточных для составления образа загадочного монаха-прорицателя. Стоит обратить внимание и на слова Михаила Ивановича о том, что интересны лишь «характерные места» статей Авеля, что уже говорит об уровне писаний монаха. Любопытно, что современный ажиотаж вокруг монашеского наследия всячески подогревается «таинственным» исчезновением «документов Семевского», что, вообще говоря, совершенно не выглядит чем-то необычным после всех революций и войн… Косвенно это еще и свидетельствует о ценности писаний монаха, явно не претендующих на ценное наследие русской старины.
Между тем поиски оригинальных работ Авеля продолжаются по сию пору, несмотря на очевидный факт, что всю интересную информацию сумел в свое время найти и опубликовать М. И. Семевский. К примеру, Михаил Иванович замечательно точно излагает крайне любопытную биографию Авеля, которую можно найти и у Ю. В. Росциуса в сокращенном пересказе современным языком. Причем Юрий Владимирович честно предупреждает, что даже после отсева редактором Семевским рассказ под названием «Житие и страдание отца и монаха Авеля», повествующий практически о всей жизни героя, более близок к неким «странноиноческим сказаниям», и было бы крайне неразумно полагать, что все сведения, найденные в свое время Семевским, более-менее достоверны. Кроме того, Ю. В. Росциус в преамбуле замечает, что поистине на славу поработала цензура XIX столетия, оставив свои следы в виде множества отточий, заменяющих куски Жития. Наряду с этим несомненны также и отзвуки приязни и неприязни, и оценки тех или иных событий автором Жития. Таким образом, по словам исследователя, появляется необходимость в сверке сообщений Жития с историческими фактами, в чем, надеюсь, могут помочь немногочисленные свидетельства независимых очевидцев – современников Авеля. Удалось также найти некоторые малоизвестные публикации, содержащие фрагменты допросов Авеля в Тайной экспедиции. Однако названных документов так мало, и так сильны в них субъективные погрешности авторов, что они порой плохо согласуются друг с другом, иногда просто противоречивы. Поэтому в приводимом ниже анализе мы будем следить за деяниями Авеля и за воспоследовавшими за ними репрессиями: ссылками, осуждениями, тюрьмами, заточениями в крепости и т. д.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу