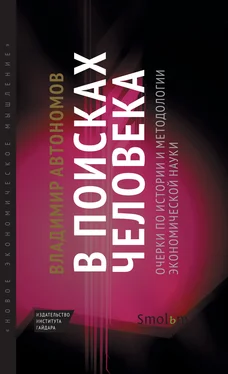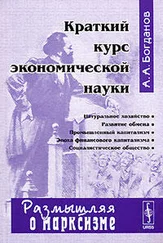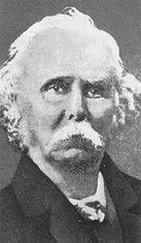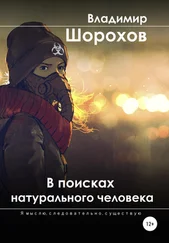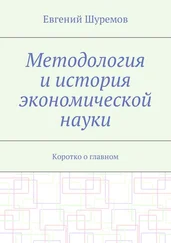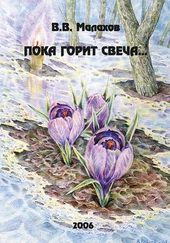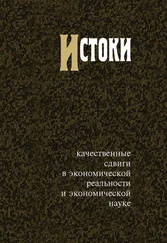Если бы я писал эту главу сегодня, то уделил бы больше внимания «склонности к обмену», которая является одним из основных свойств человека в «Богатстве народов» Смита. Это неочевидное свойство лежит в основе разделения труда, из которого Смит, в свою очередь, выводит технический и экономический прогресс. Важно, что благодаря этой предпосылке разделение труда возникает естественно, само по себе и не требует понуждения со стороны государства. Поэтому модель человека у А. Смита (включая собственный интерес и компетентность в его определении) – это важный его аргумент против меркантилистов.
Замысел третьей главы – в первой книге аналога не было – таков: мы возвращаемся к компонентам современной модели человека и смотрим, насколько они проблематичны, какие аномалии и дискуссии с ними связаны. У внимательного читателя при этом, может быть, возникнет вопрос: как же так, еще в первой главе специальный параграф был посвящен тому, что предпосылки экономической теории не подлежат непосредственной верификации? Однако здесь противоречия, на мой взгляд, нет: глубоко абстрактная модель человека, из которой исходит доминирующая в экономической науке неоклассическая теория, часто служит отправным пунктом научного поиска. Ослабляя ту или иную абстракцию, составляющую модель человека, исследователи делают шаг к реальности. При этом они либо удерживаются в рамках неоклассики (максимизации целевой функции, равновесия), либо предлагают ей альтернативу (это сейчас принято называть гетеродоксальными подходами). Так и происходит прогресс в современной экономической науке, если рассматривать его сквозь призму модели человека, что я и попытался сделать на том материале, который был мне известен в середине 1990-х гг. Поскольку начиная с маржиналистской революции основными «изолирующими» компонентами модели человека, которые обособляют предмет экономической науки от поведения, соответствующего житейскому здравому смыслу, являются информированность и рациональность, то немудрено, что именно областям экономической теории, связанным с этими компонентами уделено в главе первостепенное внимание. В микроэкономике это проблема неопределенности, а в макроэкономике – проблема ожиданий. Особое место занимает здесь теория ожидаемой полезности. Она впервые дала возможность эмпирически проверить гипотезу максимизации ожидаемой полезности, входящую в модель человека, и убедиться в ее неверности для целого ряда случаев. Но это в общем не повлияло на употребимость данной гипотезы и доказало на практике, что компоненты модели человека действительно входят в ядро экономической теории и не могут эмпирически опровергаться.
Однако и в области мотивации можно найти несколько важных проблем: это изменения потребностей и их реальная зависимость от ограничений, проблема эгоистичности экономического человека и информативности предпосылки неэгоистического поведения, экзогенность или эндогенность норм, неискоренимый альтруизм в теории общественных благ и т. д.
Одним из самых интересных результатов этой главы стал, по-моему, тезис о «неоклассическом обволакивании» – процессе, в ходе которого неоклассическая теория включает в себя аномалии и иные сложности реального поведения, переводя их на свой язык максимизации и равновесия. Неоклассическая теория, таким образом, расширяет сферу своего применения, но внедренные в нее феномены из угловатых и малоприятных камешков превращаются в гладкие и блестящие жемчужины. То, что этот образ с тех пор прижился, свидетельствует о том, что он отражает реальный процесс.
В четвертой главе продолжается разговор о различных гетеродоксальных подходах («строках» матрицы), начатый в первой книге. Как мне кажется, здесь заслуживает внимания попытка найти общие черты для моделей человека в гетеродоксальных подходах (параграф 4.1), где на первый план вновь выходит дилемма «строгость против реалистичности» и связанная с ней глубина абстракции. В пункте 4.2.3 начинается обсуждение постоянной и переменной рациональности в рамках модели человека в экономической науке, которому будет посвящена одна из последующих статей [11] «Постоянная и переменная рациональность как предпосылка экономической теории».
. Это, конечно, не отдельная строка в нашей матрице, так что в этой главе данный параграф не совсем на месте.
Обратите внимание, что поведенческая экономическая теория в этой главе включена в гетеродоксальные подходы. Между тем можно констатировать, что в 1980–2000-х гг. она попала в мейнстрим экономической науки в ходе процесса, который мы с Юрием Автономовым постарались описать в другой работе [12] «Общая теория „споров о методах“ в экономической науке». См. также описание этого процесса Р. И. Капелюшниковым: Капелюшников Р. И . Поведенческая экономика и «новый» патернализм // Вопросы экономики. 2013. № 9. С. 66–90; № 10. C. 28–46.
.
Читать дальше