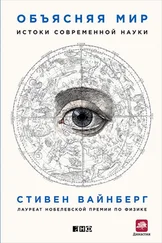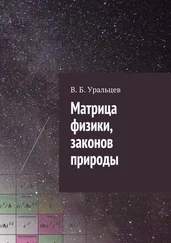Метафизика и эпистемология по крайней мере старались играть конструктивную роль в науке. Не так давно наука подверглась атаке со стороны недружественных комментаторов, объединившихся под знаменем релятивизма. Философы-релятивисты отрицают стремление науки к открытию объективной истины [148]; они рассматривают ее всего лишь как еще одно социальное явление, не более фундаментальное, чем культ плодородия или шаманство.
Философский релятивизм частично уходит корнями в сделанное философами и историками науки открытие, что в процессе признания научных идей очень много субъективизма. Мы уже обсуждали ту роль, которую играют эстетические суждения в признании или отрицании новых физических теорий. Для ученых все это давно известно (хотя философы и историки науки пишут иногда так, как будто мы слышим об этом в первый раз). В знаменитой книге «Структура научных революций» [149]Томас Кун сделал следующий шаг и попытался доказать, что во время научных революций те понятия (или парадигмы ), с помощью которых ученые оценивают теории, сами меняются, так что новые теории просто нельзя судить по дореволюционным стандартам. Многое в книге Куна полностью соответствует моему собственному опыту в науке. Но в последней главе Кун упорно атаковал ту точку зрения, что развитие науки приближает нас к объективной истине: «Мы можем, точнее говоря, должны отказаться от представления, явного или неявного, что изменения парадигмы приближают ученых и их последователей все ближе и ближе к истине». Позднее книга Куна, кажется, стала читаться (или, по крайней мере, цитироваться) как манифест общей атаки на предполагаемую объективность научного знания.
Кроме того, начиная с работы Роберта Мертона, в 30-е гг. усилилась тенденция со стороны антропологов и социологов рассматривать занятия наукой (или, по крайней мере, наукой, отличной от социологии и антропологии) теми же методами, которые используются для исследования других социальных явлений. Конечно, наука является социальным явлением, со своей системой ценностей, снобистскими замашками, интересными методами совместной деятельности и подчинения. Так, Шарон Тревик провела годы в обществе экспериментаторов, занимавшихся физикой элементарных частиц, в Стэнфордском ускорительном центре и лаборатории КЕК в Японии и описала то, что она видела, с точки зрения антрополога. Эта ветвь большой науки является естественным полем для изучения антропологами и социологами, так как ученые, с одной стороны, придерживаются древней традиции, поощряющей личную инициативу, и, с другой стороны, вынуждены при проведении современных экспериментов работать вместе в командах, насчитывающих сотни человек. Как теоретику мне не приходилось работать в подобных группах, но многие другие наблюдения Тревик, содержат, по-моему, много верного, например:
«Физики рассматривают себя членами элитарной группы, членство в которой определяется только личными научными заслугами. При этом предполагается, что все имели честный старт. Принадлежность к группе подчеркивается крайней непринужденностью в одежде, одинаковым видом кабинетов и обращением друг к другу по именам. Индивидуализм и соревнование считаются допустимыми и эффективными: иерархия в сообществе строится как меритократия 29), производящая хорошую физику. Однако американские физики подчеркивают, что наука недемократична: решения, касающиеся целей научной деятельности, не должны приниматься большинством голосов сообщества и не должно быть равного доступа для всех к ресурсам лабораторий. Большинство японских физиков придерживаются по этим пунктам противоположного мнения…» [150]
Во время подобных исследований антропологи и социологи обнаружили, что даже процесс изменений в научной теории является общественным делом. В одном из недавних обзоров отмечалось, что «научные истины, по существу, являются широко цитируемыми общественными соглашениями относительно того, что представляет собой “действительность”, возникающими в результате “научного процесса” переговоров» [151]. Наблюдения за учеными в процессе работы позволили французскому философу Бруно Латуру и английскому социологу Стиву Булгару заметить, что «переговоры относительно того, что считать доказательством, или что является хорошим экспериментом, столь же беспорядочны, как и любой спор между судейскими или политиками».
Казалось бы, остается всего лишь один шаг от этих полезных исторических и социологических наблюдений до радикальной точки зрения, что конкретное содержание общепринятых научных теорий определяется общественной и исторической обстановкой, в которой данная теория развивалась. (Развитие именно такой точки зрения иногда называют программой-максимум социологии науки.) Эта атака на объективность научного знания проявилась даже в заголовке книги Эндрю Пикеринга «Создание кварков» [152]. В заключительной главе он приходит к выводу: «Если учесть огромную тренировку физиков, занимающихся элементарными частицами, в применении сложной математической техники, то преобладание математики в их описании реальности не сложнее объяснить, чем пристрастие народа к своему родному языку. Точка зрения, которая отстаивается в этой главе, заключается в том, что при развитии взглядов на окружающий нас мир никто не обязан принимать во внимание то, что говорит наука двадцатого века». Пикеринг детально описывает большие изменения в направлении развития экспериментальной физики высоких энергий, произошедшие в конце 60-х – начале 70-х гг. Вместо здравого подхода (термин Пикеринга), заключавшегося в том, чтобы сосредоточить усилия на самых заметных явлениях в столкновениях частиц высоких энергий (например, фрагментация частиц на большое число других частиц, летящих в основном в направлении первичного пучка), экспериментаторы начали проводить предложенные теоретиками опыты по поиску редких событий, например таких, когда какая-то частица большой энергии летит после соударения под большим углом к направлению первичного пучка.
Читать дальше