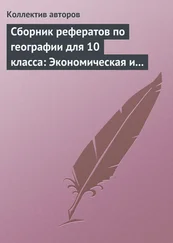Названные нами труды – провокация 18в отношении не только тех дисциплин, в эмпирическом материале которых их авторы «обналичивают» свои открытия (прочтение архаических мифов как резервуара социально-политических представлений древних обществ, происхождение греческой трагедии из музыки, связь между кальвинистской этикой и «духом» капитализма), но дисциплинарного партикуляризма или, по слову Э. Ауэрбаха, «спецификаторства» как такового. Научная деятельность предстает в этих полемиках как «ответственное поступание». Легко увидеть, как далек этот живой пафос «борьбы за признание» (или даже за выживание), священной войны pro aris et focis – во имя алтарей и очагов – от легкомысленной риторики междисциплинарности, мыслящей отношение между предметными науками по «капиталистической» модели максимизации прибыли благодаря использованию возможностей обмена. Вдохновенное écrasez l’infâme 19, обращенное Виламовицем к Ницше, не было повторено в адрес Вебера или Бахтина их критиками лишь вследствие изменения канонов риторики в научных спорах. Названные авторы и сами нередко описывают смысл своей реформы как создание некоей более подлинной формы самой предметной науки, «склеротизация» которой привела ее к отступничеству от самой себя: так, Вико именовал свою «новую науку» филологией и историей, а Эрвин Роде признавал «артистическую метафизику» своего друга «истинным вдохновенным антиковедением» 20.
Названные авторы обладают в отношении предметных дисциплин странным даром дивинации: вплетая в аргументативную ткань своих рассуждений множество ошибок и неточностей, эти «Пенелопы философии» 21совершают в провоцируемых ими науках такое «обращение взгляда», которое открывает в них радикально новые эвристические возможности. Виламовиц, опираясь на только одному ему посильную ingens moles 22античных литературных свидетельств, сокрушил и высмеял идею Ницше о том, что олимпийской религии предшествовал культ титанов и темных хтонических божеств, но прошло несколько десятилетий, и Карл Кереньи нашел у минойцев то, что его великий предшественник искал у греков 23, а Эрик Доддс, притом без всякой референции к Ницше, средствами скрупулезного филологического анализа развеял (пусть и далеко не в первый раз) столь дорогую сердцу Виламовица иллюзию лессинговско-винкельмановской прекрасной и рациональной Эллады и даже сумел показать истинность того, над чем Виламовиц так потешался – что греки видели сны иначе, чем мы, люди Нового времени 24. Уже в наши дни Н. В. Брагинская нашла и реальное воплощение «платонической идеи жанра», знаменитой бахтинской мениппеи, историческое существование которой так решительно отрицал некогда М. Л. Гаспаров, – причем ею оказался, по мнению исследовательницы, текст, переведенный самим же Гаспаровым, – греческий роман «Жизнеописание Эзопа» 25.
Ницше говорил о присущем ему особом «озадачивающе-своеобразном взгляде на эллинство», позволявшем ему в хрестоматийном и привычном – в «добродушном старце» Гомере, у знакомой каждому немецкому гимназисту триады греческих трагиков – найти потаенные глубины, открывающие перед посвященным в философские мистерии эпоптом 26природу «аполлонической кажимости» и «дионисийского опьянения». Настоящая область интервенции этих философствующих филологов – область само собой разумеющегося, они ставят перед собой цель обнаружить те «априорные конструкции», «тайные суждения здравого смысла», которые для самих цеховых ученых остаются слепым пятном. При этом деструкции подвергаются сами представления специальных наук об объективности, достоверности и факте. Предоставим теперь слово для ответной речи оппоненту Виламовица, Эрвину Роде:
[О]бъективность, заявляющая, что, исследуя самую сокровенную суть античного искусства, полагается на одни только «свидетельства», – она по сути иллюзорна, и не более того. Лежащему в развалинах чудному миру древности мы предстоим точно так же, как и всей совокупной природе, – и тут, и там перед нами несвязная бесконечность отдельных предметов, побуждение искать для них некое единство исходит из самых глубин нашей натуры, а его мы в свою очередь можем обретать лишь в том единстве созерцающего познания, какое возникает внутри нас самих. К разрозненным обломкам античной традиции можно применить замечательные слова Монтеня: «II est impossible de renger les pièces, à qui n’a une forme du total en sa teste» 27. Мы всей душой хотели бы приблизиться к величайшей культуре древней Эллады, а отсюда – многочисленные попытки постигать ее на основе самых различных, какие только могут быть, воззрений на мир 28.
Читать дальше