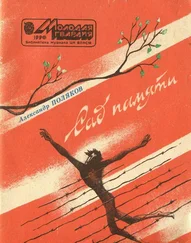Между тем, честное отношение к предмету предполагает отказ от презумпции «особых» прав и «особого» статуса человеческих агентов – все включенные в сеть участники взаимодействуют в ней на равных, и нет ничего строго и исключительно «человеческого» в «социальных» отношениях. Для иллюстрации этого тезиса Латур показывает, что нечеловеческие агенты способны не только вступать в социальные отношения, но и быть в них эффективнее и успешнее людей. Например, механический доводчик двери успешно переигрывает швейцара на рынке труда, постепенно маргинализируя эту профессию [18] Латур Б. Где недостающая масса? Социология одной двери. В честь Роберта Фокса // Социология вещей. М.: Территория будущего, 2006, с. 199–223.
.
Независимо от того, в какой мере заманчивым читатель сочтет следовать за Латуром по пути стирания границ между «человеческими» и «не-человеческими» участниками социальных практик, нельзя не отметить важный общий результат многочисленных попыток применения акторно-сетевого подхода и «принципа симметрии». Эта работа выявила неустранимую принципиальную значимость инфраструктуры, которая обеспечивает само существование находящихся в фокусе нашего внимания объектов. Сосредотачиваясь на том, что нам кажется важным, на том, что является нашей непосредственной целью, предметом интереса, мы теряем из виду систему условий, без которых привлекающий наше внимание объект не может существовать. Нам кажется, что находящееся в фокусе нашего внимания существует само по себе, однако в действительности оно существует только как продукт сложной социально-технологической инфраструктуры, большая часть которой (если не вся) остается невидимой, но в отсутствие которой сам интересующий нас объект не может быть обнаружен или как-либо использован.
Хорошие примером инфраструктурной зависимости ключевых компонентов современного мира служит находящийся в фокусе всеобщего внимания вирус COVID-19 [19] См. сходный исторический пример (на материале истории открытия вакцины от сибирской язвы) в: Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос, 2002, № 5–6 (35), с. 211–242.
. На первый взгляд, вирус представляется просто некоторой (враждебной) реальностью, воспринимаемой по аналогии с другими «реальными угрозами» современного мира. Однако внимательный взгляд обнаруживает определенные особенности. Во-первых, его никак нельзя обнаружить в бытовых условиях. В строгом смысле слова «обнаружить» его можно только с помощью радиоэлектронного микроскопа, поскольку размеры вирусов не позволяют наблюдать их оптически. Соответственно, чтобы COVID-19 превратился в «реальность», нужен вызываемый им комплекс симптомов (которого вполне может не быть и который, строго говоря, не специфичен для этого вируса, то есть может сопровождать заражение множеством других инфекций или даже неинфекционные функциональные нарушения) и тестовый инструментарий, без которого поставить диагноз невозможно. Выходит, что без специально созданного биотехнического средства, являющегося детектором COVID-19, обнаружить его можно только в специальной и очень дорогой лаборатории. Тест же, в свою очередь, обнаруживает (строго говоря, по косвенным признакам, не непосредственно) факт присутствия биохимического объекта (вируса), но ничего не говорит о том, «болен» пациент или «здоров» – это различение производится на основе наблюдаемой симптоматики и субъективной оценки самочувствия. Получается, что кажущийся «простым объектом» COVID-19 в действительности представляет собой результат работы сложной инфраструктуры, в которую входят «страдающий» пациент, осведомленные о возможности диагноза «COVID-19» врачи, группа симптомов и инструменты тестирования. Достаточно изъять любой компонент этой сложной сети, и COVID-19 исчезнет, сделавшись неразличимым среди множества других инфекций, симптомов, болезненных состояний, терапевтических практик и других медицинских фактов.
Инфраструктура создает и поддерживает вещи, оставаясь невидимой, но составляя фундаментальную основу существования наблюдаемого и столь дорогого нам мира.
А между тем сложившаяся на базе этих технологий транспортная и коммуникационная инфраструктуры в корне изменили всю социальную жизнь: от экономики и политики до повседневности «цивилизованного человека», по сути, именно эти инфраструктурные системы составляют материально-технологическую основу того, что мы называем «цивилизованным миром».
Читать дальше
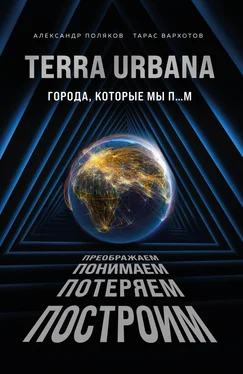

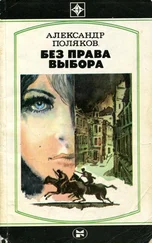
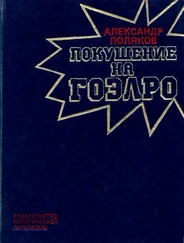


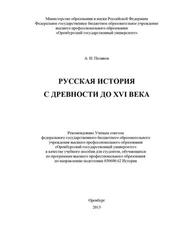

![Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-thumb.webp)