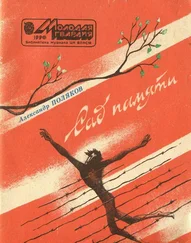По сути, общества как сети определяются количеством участников [45] Мы позволим себе обойти стороной важный и очень модный в современной социальной теории вопрос о равно- или неравноправии человеческих и нечеловеческих участников сети – т. е., в частности, о том, можно ли эффективно заменять людей роботами и системами, оснащенными искусственным интеллектом. Мы вернемся к этому вопросу в четвертой главе, где речь пойдет об экономике, а пока позволим себе остаться традиционалистами и настаивать на некоторой – да простят нас сторонники акторно-сетевой теории – асимметрии различных участников сетей в пользу людей: все-таки нам сложно представить себе «общество», в котором нас, людей, полноценно (и, видимо, окончательно, раз уж полноценно) заменили какие-то другие типы «агентов». Во всяком случае, это не совсем то «общество», в котором хотелось бы жить.
и эффективностью связей. Можно собрать огромное число людей вместе (в буквальном смысле – например в концентрационном лагере), но в отсутствие эффективной инфраструктуры взаимодействия – начиная от общего языка и заканчивая различными инструментами реализации коллективных целей – эта совокупность индивидов не будет обществом, а при сильном превышении численности над инфраструктурной обеспеченностью начнет голодать и истреблять друг друга. (Собственно, эта одна из тривиальных и лишенных ценностно-идеологической окраски причин, в силу которых различные институты жестких ограничений доступа социальной инфраструктуре такие, как апартеид и любые формы социальной дискриминация – являются в точном, инженерном смысле слова плохим решением). С другой стороны, любая сколь угодно изощренная инфраструктура не будет работать без соответствующего количества людей: утилитарная целесообразность (например окупаемость) любых инфраструктурных решений (дорог, водоснабжения, проводов и т. д.) требует определенного количества участников соответствующей сети. При этом чем больше участников существует в режиме социальной компактности – то есть включены в общую сеть и в этом смысле сосредоточены «в одном и том же месте» (эффективно связаны и совместно действуют – от воспроизводства семейных и дружеских связей до общих проектов по освоению космоса) – тем больше возможностей для развития и оснований для наращивания инфраструктуры имеет соответствующая сеть.
Инфраструктура обеспечивает социальную компактность, преодолевая по мере собственного развития одну за другой естественные границы расширения сети – от пространственных дистанций (слишком далеко, чтобы общаться и действовать совместно – помогут транспортные системы и средства связи) до языковых барьеров (машинные переводчики, все лучше позволяющие понимать написанное и сказанное на совершенно незнакомых языках). И чем большее количество людей включается в сеть, тем более сложные инфраструктурные решения с одной стороны, требуются, а с другой – становятся достижимыми.
Инфраструктура обеспечивает количество, количество толкает вперед развитие инфраструктуры. Соответственно, стратегическое преимущество в этой ситуации получают максимально сложные и одновременно компактные сети, хотя бы просто потому, что чем компактнее система, тем меньше издержки ее воспроизводства. Исторически первой значимой формой реализации такого рода компактности, связанной с концентрацией людских и инфраструктурных ресурсов, является город.
3. Интермедия: три образа социальной компактности
Рассеяние и концентрация составляли две противоположные силы городского развития… [46] Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое литературное обозрение, 2011, с. 177.
Елена Трубина
Не будет преувеличением сказать, что к чему-то типа города люди стремились с очень давнего времени, хотя наблюдаемым это стремление становится относительно поздно – по крайней мере, по меркам общей истории человеческого вида. Однако собственно «историческая», то есть более-менее подробно задокументированная и сохранившаяся, как минимум, в археологической форме часть этой истории уже сразу содержит городские формы, пусть и во многих отношениях достаточно далекие от современных.
«Истоки города темны, большая часть его прошлого похоронена или стерта безвозвратно, а его дальнейшие перспективы трудно оценить» [47] Mumford L. The City in History. NY: Harcourt Brace Jovanovich, inc, 1961. P. 3.
, – писал в середине XX века один из родоначальников урбанистических исследований Л. Мамфорд. В то же время, «На заре истории город имел уже зрелую форму» [48] Mumford L. The City in History. NY: Harcourt Brace Jovanovich, inc, 1961. P. 4.
. Как минимум с пятого тысячелетия до н. э. мы имеем дело с относительно крупными оседлыми поселениями – результатом «урбанистической революции», связанной с отказом от кочевого образа жизни, строительством постоянных жилищ и культовых сооружений.
Читать дальше
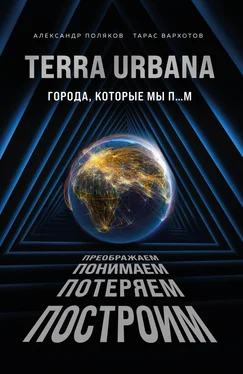

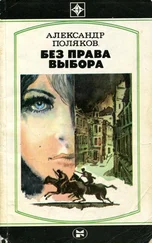
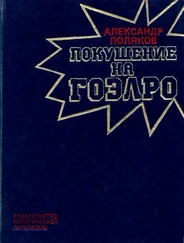


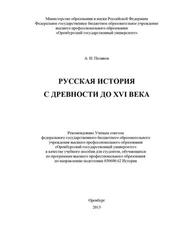

![Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-thumb.webp)