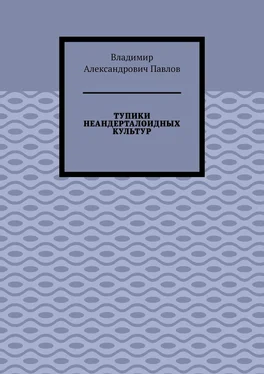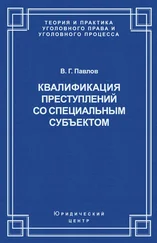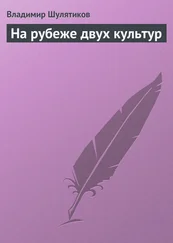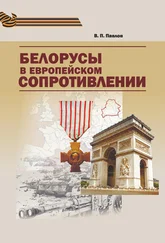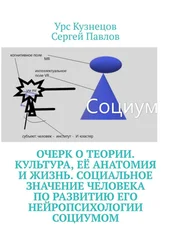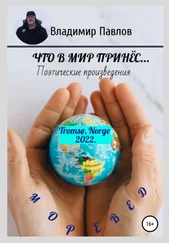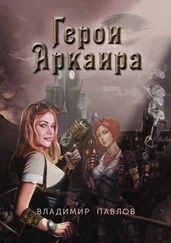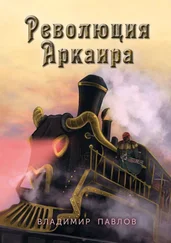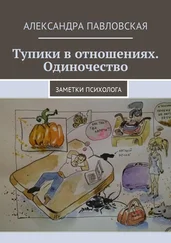Таким образом из антропологических находок, прежде всего различных костных останков в виде окаменелостей, различных артефактов культуры и быта доисторических людей, и теперь уже на генетическом уровне установлены их внешние данные, физические и интеллектуально- психические возможности. Так строение черепа, особенно внутренний его рельеф (по вдавлениям черепа – эндокранам) позволяют судить не только об изменениях размера мозга, но и о изменении его долей и соответственно о его функциональной активности в целом. Особенности строения костей, их структура, возрастные, половые отличия позволяет с позиций современной науки в том числе и полученных нами результатов научных исследований по механизмам адаптации (Павлов В. А., Доронин А. И. 2008, 2011, 2014, 2020) представить их адаптивные возможности на уровне гормональной и метаболической регуляции. И соответственно оценить особенности антропогенеза его тупики и перспективы развития. Это важно в плане перспектив развития человека в настоящем и будущем, ибо в нас есть лишь то наследие, которое мы получили от своих предшественников и должны его развивать.
Достижения неандертальцев на пути антропогенеза можно суммировать следующим образом:
– был создан механизм произвольного переключения внимания на базе эпиготовности мозга;
– возможность удерживать две мысли одновременно на протяжении времени, необходимого для выбора решения из двух как минимум;
– дополнительно активированы два дополнительных режима работы мозга и одновременно – два режима работы организма. Это режимы максимальной мощности и субмаксимальной мощности, то есть таких режимов, которые требовали метаболического переключения на анаэробный гликолиз;
– возник механизм замещения второй фазы стресса (стероидной) на метаболическую;
– как следствие;
– активация печени;
– новые механизмы регулирования работы мозга привели к изменению хода общего адаптационного синдрома;
– повышение активности печени и метаболическая активность головного мозга повысили холодоустойчивость;
– лимбический канал коммуникаций был развит до предела;
– уровень предметной деятельности достиг предельно возможного уровня в условиях отсутствующего высшего уровня;
– в сообществе неандретальцев возникли цепь ученической преемственности;
– религия как ритуалы и социальный институт для поддержания цепи ученической преемственности;
– наивысшая адаптивность обеспечила распространение неандертальцев;
– способность сравнить тактическое и стратегическое решение и выбрать стратегическое в ущерб тактическому приводит к тому, что вожак – интеллектуал предпочтительней вожака-силовика;
– экологическая ниша сформирована в виде доминанты вожака, распространенной на все племя;
– силовая иерархия сменилась иерархией по степени готовности к развитию и реализацией этой готовности в ученичестве;
– разнообразие адаптивных механизмов не только в пределах вида, но и в пределах племени;
– «расовое» разделение внутри племени, возникновение линий господ и рабов про признаку быть обученным или нет;
– необходимость построения отношений в пределах вида но между разными расами – усложнение отношений требует совершенствования коммуникаций;
– формирование в пределах вида нового вида. Суггестор и суггестируемый – разделение труда у неандертальцев – одни диктуют свою волю, другие подчиняют себя.
1.7 Антропологический тупик развития неандертальцев
Неандертальцы, живущие в тяжелых условиях, стойко несли бремя эволюции. Они довольно быстро заметили преимущество трудных условий. Вожди и шаманы (вожаки) в этих условиях тоже обладали непререкаемым авторитетом, но патентное право не омрачало их восхождения по эволюционному древу. Они могли сохранить авторитет только реальным предвидением неприятностей и спасением племени от них. Здесь и отбор учеников был более строгим, и обучение было предельно приближено к реальности, и качество обучения было эволюционно значимым. Эволюционные изменения происходили не в хромосомах, а в методике обучения. В результате этих изменений на протяжении многих поколений в популяциях неандертальцев эпиготовные не только не вымерли, не только заняли определенное положение в социуме, но естественный отбор для них сменился искусственным, и благорасположенным. Нехорошим фактором было то, что по мере приспособления популяции к наихудшим условиям, эти самые наихудшие условия переставали быть таковыми. И, следовательно, допускали брак в работе учителей, профотборе, и вожди-шаманы теряли квалификацию кризисных менеджеров, и эта потеря гасила эффективность цепи ученической преемственности. Таким образом, трудные условия жизни сохранялись только на периферии ареала, там же и сохранялись наилучшие условия и для сохранения качества учителей и цепи ученической преемственности.
Читать дальше