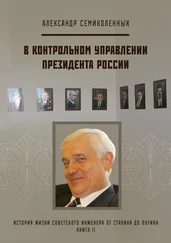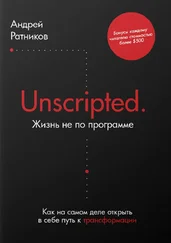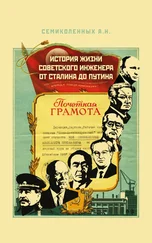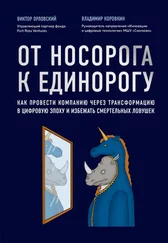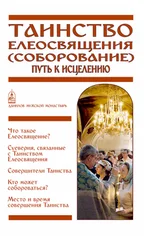Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном. Удобовпечатлимые, искренно молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду – через море!
Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно расстаются и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят через всю историю, через все перевороты, через многочисленные партии и кружки, состоящие из десяти юношей. Одна представляет логику, другая – историю, одна – диалектику, другая – эмбриогению [15] Герцен А. И. Былое и думы: в 3 т. М., 1969. Т. 1, ч. 1–3. С. 167.
.
С течением времени вместе с упрочением городской массовой культуры, индустриальных начал в жизни общества революционнодиалектический дискурс «обмирщается», приспосабливается к уровню культуры, к сознанию массового человека и становится идейным и политическим оружием социальных низов [16] И в этом своем омассовленном выражении революционно-диалектический дискурс имеет мало общего с диалектикой Гегеля и даже с теорией Маркса. Это обстоятельство с изумлением констатирует Ленин, когда путем несложных умозаключений – (1) «Капитала» Маркса, и особенно его 1-й главы, нельзя вполне понять, не проштудировав и не поняв всей «Логики» Гегеля, (2) никто из марксистов Гегеля не читал – приходит к выводу: (3) следовательно, никто не понял Маркса полвека спустя (см.: Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики» // Ленин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 т. М., 1958–1965. Т. 29. С. 162).
. В России же – не только низов, но и других социальных групп, в том числе представителей дворянства, духовенства и средних городских слоев, которые утратили привычные «места» в социокультурной иерархии и подверглись маргинализации в результате реформ 1860-х и 1870-х годов. По крайней мере, советское востребует этот дискурс как структурно-семантическую основу революционной картины мира, духовно закрепившей социальную победу аутсайдеров процесса индустриализации России, как генератор становления новой культуры. Под влиянием революционно-диалектического дискурса советское осознает и формулирует свое принципиальное отличие от других цивилизаций. И видит его в том, что если другие цивилизации возникают, как правило, в ходе исторической эволюции [17] «Цивилизации представляют собой не статические формации, а динамические образования эволюционного типа» (Тойнби А. Постижение истории. С. 73).
, то советское предполагает в качестве способа ускоренного взрывного возникновения и утверждения себя на собственной основе – Революцию. Революция здесь – квинтэссенция истории, ее завершение и отрицание. И потому советское возникает не просто как еще одна цивилизация в ряду этих других, а как господствующая и в конечном счете, во временной перспективе – одна-единственная.
В советской России революционно-диалектический дискурс за многие десятилетия врос в плоть и кровь новой культуры, массовой и высокой. Он решающим образом предопределял способ, каким «работало» мышление выпускников советской школы, средней и особенно высшей, заключая в себе идеологически уместные «подсказки» при решении нестандартных вопросов, сводя эти вопросы к уже известным объяснительным схемам. Подобного рода редукция неизвестного к известному, к общепринятым правилам вообще есть родовая черта любого дискурса, но в революционнодиалектическом дискурсе советского образца она усиливается необходимостью установить правила, которые были бы доступны пониманию человека массы, не отличающегося высотой интеллектуального развития. Это уравнивание всех по нижнему культурному пределу. Как бы предвидя опасность вульгаризации и догматизации теоретического мышления в преддверии российского «восстания масс», Ленин, обращаясь в «Философских тетрадях» к одному из предтеч марксизма, отцу современной диалектики Гегелю, подчеркивал, что сведение диалектики к сумме примеров недопустимо, что нередко этим грешил даже лучший из русских марксистов Плеханов. Встречаются подобные уступки массовому сознанию и у Энгельса, отмечал он, но только для популярности, а не как закон познания [18] См.: Ленин В. И. К вопросу о диалектике // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 316.
.
Читать дальше
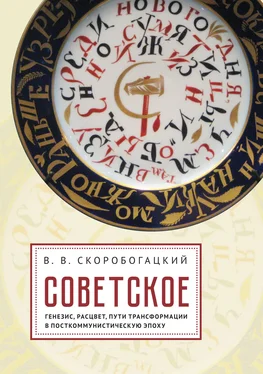
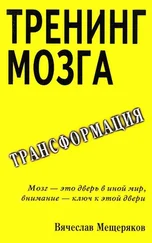

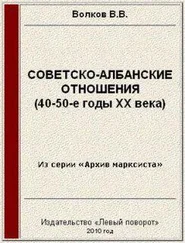
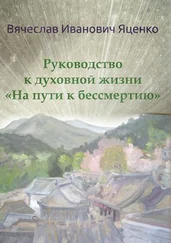
![Владимир Коровкин - От носорога к единорогу [Как провести компанию через трансформацию в цифровую эпоху и избежать смертельных ловушек] [litre](/books/393888/vladimir-korovkin-ot-nosoroga-k-edinorogu-kak-pro-thumb.webp)