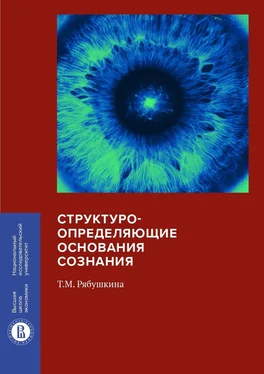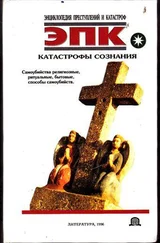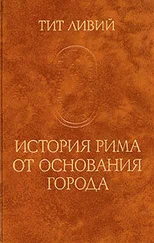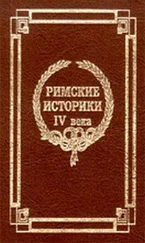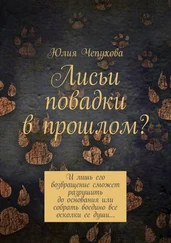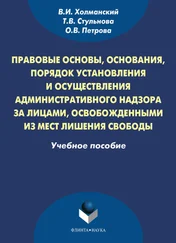Хайдеггер, как и Гуссерль, идет по пути отождествления темпоральности с субъективностью , как она сознается , т.е. с сознанием себя познающим: «Время и “я мыслю” более не противостоят друг другу как несоединимые и разнородные – они тождественны» 150 150 Там же.
.
Временность субъективности необходимо отличать от временности сознаваемого объекта. «Я» не существует ни «во времени» (ибо такой способ существования есть способ существования явлений), ни вне времени в качестве субстанции. По словам Хайдеггера, «“я” настолько “временно”, что есть само время, и лишь как таковое становится возможным сообразно своей собственной сущности» 151 151 Там же.
. Таким образом, «я» отождествляется с временем как таковым и понимается как условие возможности временных объектов: «“я” в изначальном образовывании времени, т.е. как изначальное время, образует пред -оставление нечто <���…> и его горизонт» 152 152 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 331.
.
Сознаваемое бытие присутствия (забота) у Хайдеггера оказывается основанным на временности: «<���…> время исходно как временение временности, в качестве каковой оно делает возможной конституцию структуры заботы» 153 153 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 331.
.
Однако отождествление субъективности и времени и осмысление первой через второе ведет к необходимости ответа на вопрос о том, что есть время . Что связывает воедино прошлое, настоящее и будущее? Каким образом устойчивость этой связи определяется сущностью самого времени?
У Хайдеггера сама сущность времени оказывается лишь формальным единством его трех модусов: прошлого, настоящего и будущего. Можно ли указать иное, отличное от формального, осмысление единства времени? Хайдеггер не находит иного основания единства времени , кроме единства самоаффектации : «Время по своей сущности есть чистое аффицирование себя самого. Более того: оно есть именно то, что вообще образует нечто такое, как “от-себя-к…” (“Von-sich-aus-hin-zu-auf…”), причем образующееся таким образом оглядывается назад на “из-чего” (Worauf-zu) и вглядывается в предназываемое “к-чему” (Hin-zu) <���…> Время как чистая самоаффектация не есть аффектация, воздействующая на наличную самость, но, как чистая, она образует существо нечто как себя-самого-касания» 154 154 Там же.
.
Но не получается ли круг в рассуждении, если для осмысления единства опыта субъективность отождествляется с временем, а на вопрос о том, почему мы должны считать само время единством, предлагается ответ: время есть результат самоаффектации, осуществляемой единым Я?
Определяя время как самоаффектацию, Хайдеггер оставляет кантовский вопрос об условиях возможности самоаффектации открытым. Тем самым остается без ответа и вопрос о том, как работает субъективность.
Поскольку в лице времени мы имеем результат самоаффектации, способ которой остается непроясненным, отождествление субъективности и времени неправомерно. Действительно, мы не можем утверждать, что благодаря самоаффектации достигается непосредственное знание о себе самом.
Аналогичным образом, временность у Сартра есть «внутренняя структура бытия, которое выступает своим собственным ничтожением, то есть способом бытия, присущим бытию-для-себя. Для-себя есть бытие, которое имеет диаспорическую форму Временности» 155 155 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто… С. 171.
. Именно время , по Сартру, позволяет сознанию существовать на расстоянии от себя и, таким образом, определяет бытие сознания: «Время отделяет меня от меня же самого, от того, чем я был, от того, чем я хочу быть, что я хочу делать, от вещей и других людей» 156 156 Там же. С. 160.
.
Таким образом, и у Сартра время выступает как сознаваемый нами способ бытия сознания . Что касается бытия сознания как условия возможности всего сознаваемого, то оно не может быть сознаваемо и как таковое есть Ничто . Сартр отождествляет Ничто с временным «расстоянием», которое отделяет меня самого от меня прошлого и будущего.
Однако само время как сознаваемое нуждается в основании его возможности и единства. Феноменология стремится объяснить структуру сознания средствами самого сознания, поэтому единство времени как основополагающей структуры сознания для феноменологов обусловливается не чем иным, как самим временем. Так, например, у Гуссерля абсолютный поток объявляется самоконститутивным. По сути, феноменология отказывается от объяснения единства времени, поскольку такое объяснение предполагало бы, что субъективность не ограничена пределами сферы сознания. Но для феноменологов за пределами сознания – ничто, пустая форма единства.
Читать дальше