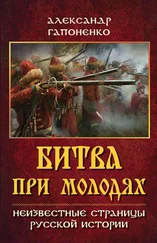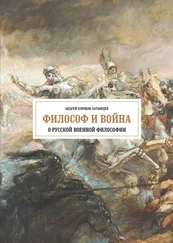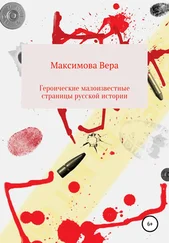РГВИА. Ф. ВУА. Д. 517. Л. 15.
В дуэли двух разведок русские часто прибегали к перевербовке агентов противника. Одним из самых удачных «двусторонних» агентов русской контрразведки можно назвать отставного ротмистра Давида Савана. В начале 1811 г. он был завербован наполеоновской разведкой и отправлен с заданием в Вильно. Но, прибыв в Россию, добровольно явился к русскому командованию. Поэтому контрразведка решила использовать его в своих целях, и он доставил в Варшаву подготовленные в русском штабе сведения. В начале 1812 г. Саван был вновь командирован французской разведкой на пять месяцев в Вильно, где с его помощью контрразведке де Санглена удалось выявить четверых французских агентов, пресечь связи группы прибалтийских банкиров, снабжавших по договоренности с варшавскими банками агентуру Наполеона в Литве. Кроме того, во время пребывания в Вильно в мае 1812 г. личного посланца французского императора графа Л. Нарбонна Саван три раза тайно встречался с ним и передал специально подобранные в штабе Барклая сведения. То есть с помощью Савана удалось перед войной создать надежный канал дезинформации противника (РГВИА. Ф. ВУА. Д. 433. Л. 5–7; Д. 436. Ч. I. Л. 153–156 об.; Ф. 474. Оп. 1. Д. 8, 10, 11).
Во время войны существовала такая практика засылки французских дезертиров. Например, 21 июля 1812 г. по приказу Барклая к противнику были отправлены обратно один португалец и один испанец (Отечественная война 1812 года. Т. XIV. СПб., 1910. С. 189).
В документах удалось отыскать факты двойной деятельности только на одного русского агента ― жителя Белостока X. М. Цыгана. В 1810–1811 гг. он был «двусторонним лазутчиком» русского полковника К. К. Щица и французского резидента А. Беллефруа. После того как удалось узнать, что он передал за границу сведения о поездках русских разведчиков А. И. Нейгарта и Г. Альперина в герцогство Варшавское и они там были взяты под стражу, Цыгана арестовали (РГВИА. Ф. ВУА. Д. 435. Л. 195–196; Отечественная война 1812 года. Т. I. Ч. 1. СПб., 1900. С. 109; Ч. 2. СПб., 1900. С. 262, 318; Т. II. СПб., 1901. C. 66, 85, 89–90, 95, 166–167, 293; Т. III. СПб., 1902. C. 84–90; T. IV. СПб., 1903. C. 78, 261; T. V. СПб., 1904. C. 248–249).
РГВИА. Ф. ВУА. Д. 517. Л. 16–24. Копия. (Аналогичные копии см.: РГВИА. Ф. ВУА. Д. 482. Л. 8–12; ОР НРБ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 250. Л. 3–5.)
В документах высшей полиции не было найдено ни одного упоминания об округах, поэтому, вероятно, во время войны § 3–5 не выполнялись.
Большое количество таких агентов было в Восточной Пруссии, многие из которых попали в поле зрения русской разведки еще в 1805–1807 гг. Значительно меньше подобной агентуры находилось в герцогстве Варшавском.
Удалось разыскать сведения лишь об одной женщине среди русского агентурного контингента ― жительнице г. Риги Таубе Адельсон, выполнявшей разведзадания в 1806–1807 гг. В 1812 г. она вновь была послана в тыл противника для сбора информации (РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 2. Д. 2535. Л. 37; Ф. ВУА. Д. 3500. Л. 12 об.).
Таковых в русской контрразведке было мало, в основном ее контингент информаторов состоял из «лазутчиков второго рода».
Такой «разнощицей тайных переписок» у русской агентурной группы, действовавшей во время французской оккупации в Полоцке, была Федора Миронова, крепостная помещика Гласнова. В качестве связной она несколько раз без всяких подозрений проникала в занятый французами Полоцк и доставляла оттуда от русских разведчиков письменные донесения командованию. Ныне в Полоцке ее именем названа одна из улиц.
В практике того времени бюджет контрразведки составлялся из так называемых экстраординарных сумм, которые выдавались военачальниками во время войны.
Так, за октябрь ― декабрь 1812 г. в 3-й Западной армии на оплату агентов и лазутчиков, выполнивших задания, было израсходовано 95 червонцев, 717 рублей серебром и 2300 рублей ассигнациями (РГВИА. Ф. 103. Оп. 208б. Св. 108. Д. 1. Ч. 2. Л. 3–4 об.).
РГВИА. Ф. ВУА. Д. 517. Л. 25–34 об. Копия. (Аналогичную копию см.: РГВИА. Ф. ВУА. Д. 482. Л. 1–7.)
Как правило, агентура предпочитала получать за свои услуги звонкой монетой. Одноразовые выплаты составляли от 5 до 30 червонцев, от 15 до 100 рублей серебром или 200–300 рублей ассигнациями. При перерасчетах 100 рублей ассигнациями приравнивались в документах разведки к 25 рублям серебром (РГВИА. Ф. 103. Оп. 208б. Св. 108. Д. 1. Ч. 2. Л. 3–4 об.).
Читать дальше
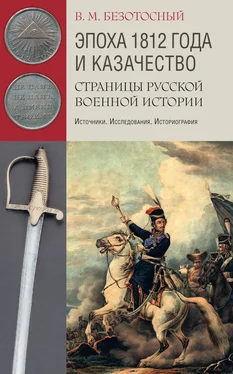
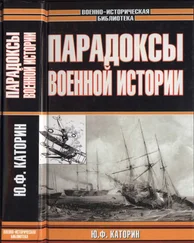

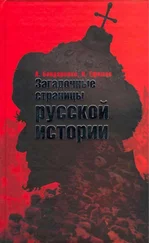
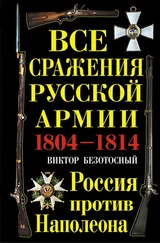
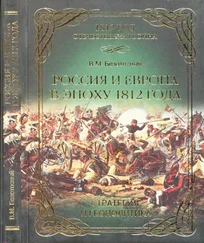
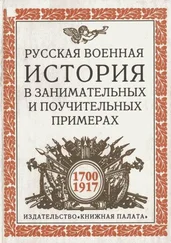
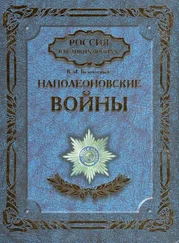
![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/431079/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st-thumb.webp)