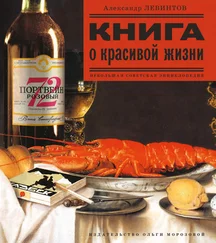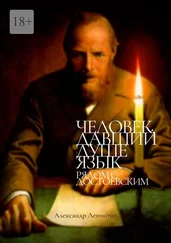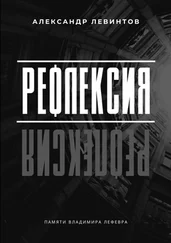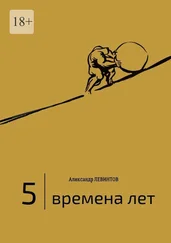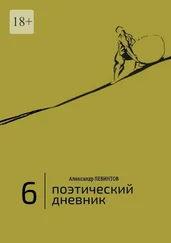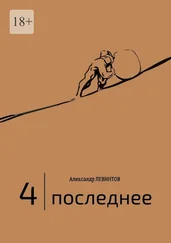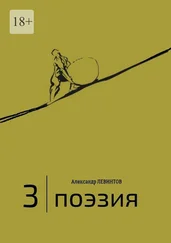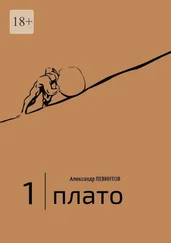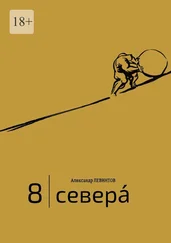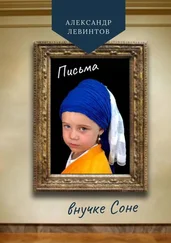– мыслительная рефлексия, охватывающая и рефлексию как мышление над мышлением и рефлексию сознания, а потому представленная двояко – субъектом-иерархом субъекта сознания (alter ego) и внешним коммуникантом (потенциально либо актуально)
– рефлексивное управление, где независимые и самостоятельные субъекты сознания и мышления присутствуют с необходимостью.
Вся эта, достаточно сложная сознательно-мыслительная конструкция не случайна – именно она, конструкция, обеспечивает существование индукционного контура Навигатор-навигатум, в котором, при всех функциональных и онтологических различиях, совершенстве Одного и несовершенстве другого, между Навигатором и навигатумом осуществляется единый и взаимообуславливающий процесс диалога между Космическим Разумом и человеком.
Мы пересекли горы, невыразительные от старости и по-старчески красивые, уже умиротворённые, успокоенные – у них всё в прошлом, когда-то, давно, бурном, а теперь они, увалистые, мягкие, погребены под снегом – в помертвевшей тиши.
За этими горами открылась унылая равнина, ровная и мучительно однообразная.
Мы уже давно движемся обозами: то по обледеневшим рекам, то этой утомительно одинаковой равниной: всё бело и ровно, вдруг – клочок деревьев, и опять – ничего. Через несколько дней твёрдо кажется, что мы движемся по кругу. Всё одно и то же и ничего не меняется.
И морозы – сильнейшие, невиданные доселе нами – в наших горах таких морозов никогда не бывало.
Сквозь полубеспамятство от этого мороза я вижу рядом с собой женщину, она прижимает к себе замотанного в тряпьё ребёнка. Она не знает и не хочет верить, что он давно уже замёрз и мёртв. Наконец, у неё вырывают его и выбрасывают из саней, как выбрасывают время от времени другие замёрзшие трупы: так легче идти измождённым лошадям, так больше еды остаётся ещё живым, и так мы спасаемся от волков, идущих ровным следом за нашими обозами. Они питаются этой падалью и не трогают нас живых. И наши обозы всё легче и легче от людей.
Я мучительно боюсь заснуть, чтобы меня по ошибке не приняли за замёрзший труп и не выкинули на рыхлый пушистый и скрипучий снег ждать волчью стаю.
Страх перед смертью, которую я еще не понимал, привел к поискам спасения, к отысканию в себе в своем сознании чего-то недоступного смерти и потому управляющего и ею, и жизнью, и самим человеком. Это был первый акт рефлексии и первая зарница рефлексии, и первый шаг по пути спасения своего Я за счет другого Я, бессмертного, предельно бескорыстного и всесильного, за счет выделения над собой субъекта.
Так я научил себя контролировать самого себя – во имя спасения и более ни для чего.
На этой мёртвой равнине я впервые почувствовал сам себя не как единый организм, а как нечто двойственное: организм и другой Я, над ним, живущий сам по себе и совсем другим, нежели организм. И они оба – Я, но разные и для разного.
Потоки наши иссякают и редеют: сзади остаются – живые ли? мёртвые ли?
Мы достигаем очередной огромной Земли – с каких высоких гор стекают такие могучие реки? Неужели эти горы выше небес? И опять разделяемся, как уже много раз делали на своем пути – часть решила пересечь реку по льду и двигаться дальше на восток – они уверены, что так достигнут моря или своей земли, или и то и другое вместе. Мы же решили идти вниз по течению этой реки, на север, ведь должна же она куда-то, во что-то впадать, и, может, там и будет земля, которую мы назовём своей.
Никто не знает, кто прав, а кто не прав – нет между нами судьи, знающего истину: мы все правы, даже если погибнем и никуда не дойдём – значит наша истина в том, чтобы бесследно погибнуть.
Однажды у меня был разговор:
– зря люди ищут контакт с другими цивилизациями – его не будет
– почему?
– если эти цивилизации менее развиты, чем наша, у них ещё нет средств принять наш сигнал и ответить на него, а если более развиты, то мы им совсем неинтересны, искать же равных себе, конечно, можно, но – зачем? поделиться историческим опытом? обменяться опытом? – мы вряд ли сможем понять друг друга, разве что напугать или ужаснуться
Я задумался.
Гермес Трисмегист прав: что на небе, то и на земле. По мере накопления опыта, мастерства, мудрости, люди примолкают и уходят в себя, им неинтересно общаться абы с кем, терять время на всякого встречного-поперечного. В этом одиночестве – одна из проблем и трагедий гениев и вообще людей одарённых и талантливых. Они замыкаются в себе, уходят в отшельничество, молчальничество, столпничество и другие аскезы одиночества и отрешённости. В наставшую эпоху тотального общения, массированных коммуникаций они вынуждены уходить в тихую аристократию молчания.
Читать дальше
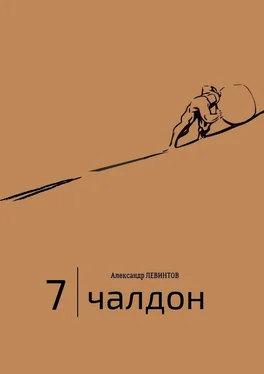
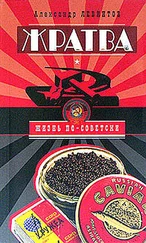
![Александр Левинтов - Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия]](/books/419542/aleksandr-levintov-kniga-o-vkusnoj-zhizni-nebolsha-thumb.webp)