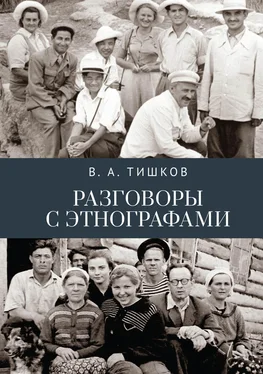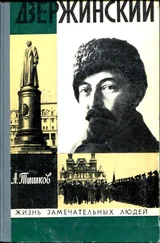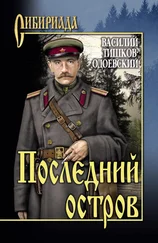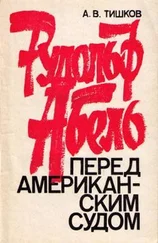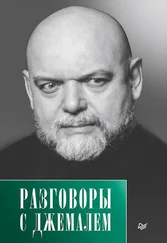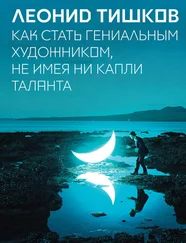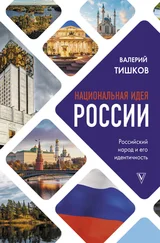в поселке Комарово на даче Л. П. Потапова, многолетнего руководителя Кунсткамеры, крупного сибириеведа и тогда пенсионера, готового поделиться с впервые увиденным человеком своими мыслями, советами и полезными воспоминаниями. Меня поразило благородство облика Леонида Павловича, его несуетливость, занятость не столько большой теорией, сколько осмыслением первичного этнографического материала. Сюжеты более чем полувековой давности об уничтоженных рьяными спецслужбистами шаманских бубнов и о репрессированных алтайских шаманах беспокоили его до самого конца жизни не меньше, чем тогдашние горячие проблемы статуса и развития Музея антропологии и этнографии как самостоятельного учреждения.
Беседа с С. И. Бруком имела место буквально за несколько дней до его отъезда в Израиль к родственникам и на лечение. Из этой поездки Соломон Ильич не вернулся и похоронен в дальних краях, хотя всю жизнь отдал советской науке и создал ряд трудов научно-справочного характера, которыми до сих пор пользуются многие люди, далеко не всегда ссылаясь на автора. Не особо путешествуя по миру, но будучи по образованию географом, С. И. Брук великолепно знал этническую и демографическую карту мира, и в этом ему не было равных. За то, что нанес македонцев как отдельную группу на этническую карту Болгарии, получил публичные жалобы от руководителя страны Т. Живкова, а за то, что считал корсиканцев и бретонцев отдельными народами Франции, – жалоба на институт пришла в Москву от лидера французской компартии Жоржа Марше. Только теперь мне стали особо понятными эти проблемы, когда на институт и на меня лично жаловались российскому президенту руководители Татарстана (за признание отличительности кряшен) и руководители Дагестана (за признание существования малочисленных андо-цезских народов республики). С. И. Брук долгое время работал заместителем директора института, решал многие кадровые и издательские вопросы. На его столе были заветные три стопки библиографических карточек: рукописи, которые включались в план издания, которые шли на редакционную подготовку и которые издательство «Наука» намечало опубликовать в данном году. Защиты диссертаций и карьерное продвижение сотрудников института во многом зависели от порядка, в котором располагались эти карточки. Хорошо, что мне не приходится заниматься этим в новых более свободных условиях научного творчества.
Т. А. Жданко была единственная женщина среди моих собеседников, хотя в институте и в науке в целом женщины занимают важнейшее место. Татьяна Александровна была величественно красивой, обаятельной, организованной и сдержанной. До последних дней своей долгой жизни приводила в порядок свои этнографические материалы. А накопилось их много за десятилетия трудных археолого-этнографических экспедиций в Среднюю Азию. Это было время чрезвычайно интенсивных работ и больших открытий под руководством тогдашнего директора института С. П. Толстова. Открытие и объяснение Хорезмийской цивилизации остается одним из научных приоритетов отечественной гуманитарной науки. Начатый мною в 2006 г. проект создания электронного фотоархива института даст дополнительные материалы об этой уникальной экспедиции, которая длилась почти полвека. Т. А. Жданко не очень много рассказала мне о внутриинститутской жизни, но на самом деле ее роль была очень большой.
Долгую и славную жизнь в науке прожил член-корреспондент РАН К. В. Чистов – великий энтузиаст русского фольклора и народной традиции. Когда я брал у него интервью, то я не знал, что у Кирилла Васильевича богатое поэтическое творчество: сборник его стихов был подготовлен и издан его сыном Юрием Чистовым – нынешним директором Кунсткамеры к 80-летию ученого. Поэтического восприятия профессии и жизни – это то, чего мне не хватало во всех разговорах, хотя мне известно, что многие этнографы были не чужды литературно-поэтическим занятиям. Именно поэтому я включил некоторые отрывки из стихов К. В. Чистова в его интервью. Из всех редакторов нашего журнала «Советская этнография» К. В. Чистов был, пожалуй, самым старательным и профессионально точным. Он даже текст своего интервью вычитывал дважды и делал важные исправления и уточнения. Далеко не все считали это абсолютно необходимым, доверяя мне как собеседнику. Я, кстати, никогда не пытался что-то подправить или дописать (даже в мои собственные вопросы), чтобы как-то выделить и усилить собственную позицию. Беседы велись не для этого.
Читать дальше