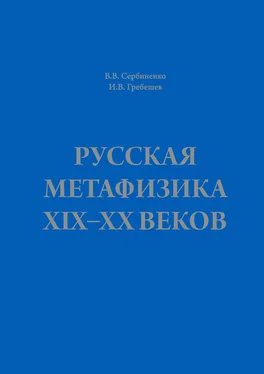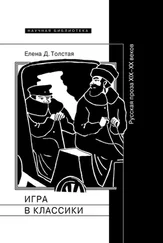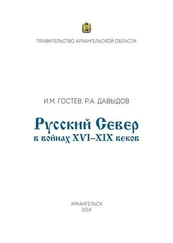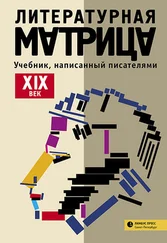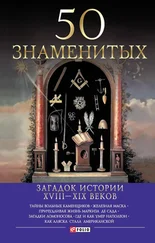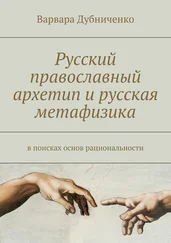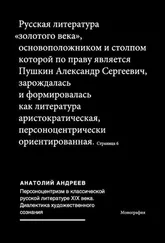«Русская идея», как ее понимали Достоевский, Соловьев и, заметим, многие другие русские мыслители, не стала основой национальной идеологии. Но не потому, что была слишком абстрактной, далекой от реальной жизни. Метафизические идеи обладают собственной ценностью, независимой от степени их идеологического влияния. Добро остается добром, а истина истиной даже тогда, когда, казалось бы, все происходит не по истине и не по добру. Так, во всяком случае, обстоит дело с точки зрения опыта мировой метафизической традиции. Не стоит им пренебрегать во имя идеологических фантомов «современности», «прогресса», «светлого будущего» и пр.
Проблема необходимости духовного единства российского общества – это постоянная и важная тема русской философии XIX–XX веков. Отечественные мыслители думали и писали о том, какие роковые последствия для национального самосознания имел церковный раскол XVII века; о том, что в послепетровской России возник разрыв между европеизированным высшим классом общества и народом, живущим, как утверждал Достоевский, «своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отдаляясь от Петербурга», от достаточно тонкого слоя петербургской культуры. Уже в XX веке Г. Федотов скажет об этом с еще большей определенностью: «Россия с Петра перестала быть понятна русскому пароду» [7] Федотов Г.П . И есть и будет. Париж. 1932. С. 9.
. Многим было ясно и то, что для многонациональной и отнюдь не монорелигиозной России путь формирования единой идеологии националистического типа в сочетании с распространяющимся на все сферы общественной жизни диктатом государства совершенно неприемлем и чреват в будущем социальным взрывом. Об этом думали и предупреждали как раз те, кто не желал своей родине великих потрясений. «Существующие основы государственного строя России мы принимаем как факт неизменный, – писал Вл. Соловьев. – Но при всяком политическом строе, при республике, при монархии и при самодержавии государство может и должно удовлетворять внутри своих пределов… требованиям национальной, гражданской и религиозной свободы. Это дело не политических соображений, а народной и государственной совести» [8] Соловьев В.С . Соч. Т. 2. С. 211.
.
Предпринимавшиеся уже в XIX веке попытки власти сформировать и внедрить единую идеологическую систему трудно оценить иначе как серию неудач. Знаменитая уваровская формула «православие, самодержавие, народность» в значительной степени осталась идеологическим лозунгом, санкционировавшим официозный идеологический контроль, но так и не ставшим основой системы ценностей, способной объединить различные слои российского общества. Сергей Семенович Уваров, президент Академии наук и министр народного просвещения, был человеком европейского образования и воспитания (о его литературных способностях высоко отзывался Гете). Он ничем не напоминает консерватора-традиционалиста и тем более националиста. «Умом вселенский гражданин» – так писал о нем поэт К.Н. Батюшков. Типичный представитель петербургской элиты, прошедший дипломатическую школу, Уваров в своем идеологическом опыте желал России такой же национально ориентированной идеологии, какая была у других европейских государств, то есть, говоря словами Вл. Соловьева, идеологии «национального эгоизма». По сути, именно в исключительном подчинении национально-государственным интересам Уваров видел смысл последнего элемента собственной идеологической триады – народности. «Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия, – утверждал он. – Оно само по себе, а мы сами по себе. Оно и не заслуживает нашего участия, потому что мы без него устроили наше государство, без него страдали и возвеличивались, а оно всегда пребывало в зависимости от других, не умело ничего создать и теперь окончило свое историческое существование» [9] См.: Никитенко А.В . Записки и дневники. СПб., 1868. Т. 1. С. 403.
.
Попытка «прививки» национальной идеологии сверху оказалась неудачной. Проблема духовного единства российского общества так и не была решена, и, когда в начале XX века Россия вступила в полосу внутренних и мировых потрясений, идеологическое противостояние и отчуждение в обществе сыграли в ее судьбе роковую роль. История трагическим образом подтвердила правоту русских мыслителей, утверждавших, что идеологизированный национализм не имеет перспектив на российской почве и не может стать подлинной основой национального единства. В октябре 1917 года большевики пришли к власти под знаменами интернационализма. И какой бы ни была реальная национальная политика режима на протяжении десятилетий, он был просто не в состоянии отказаться от интернационализма как основополагающего принципа собственной идеологии. Нет ничего удивительного в том, что в постсоветский период немалой популярностью пользуется представление, что единственный путь к «обустройству» России лежит через жесткий авторитаризм, который, естественно, не может не предполагать возвращения к практике идеологического диктата, к идеократии. Такой взгляд многим кажется реалистическим и трезвым. Однако в действительности – это миф, еще одна бесперспективная утопия. Давно замечено: то, что однажды оказалось исторической трагедией, при повторении может обернуться фарсом. Новый опыт диктатуры в Р оссии, под какими бы идеологическими лозунгами – «левыми» или «правыми» – он ни осуществлялся, станет именно фарсом, хотя и, безусловно, трагическим для страны и народа. Не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что у новых экспериментаторов не будет и тех нескольких десятилетий, которые история отвела коммунистическому режиму. Народы России выстрадали сложную (а не механически-примитивную) организацию государственной и социальной жизни, систему духовных ценностей, позволяющую добиться подлинного единства в многообразии культурно-национального бытия. Решение подобных задач, конечно, не может быть ни легким, ни простым. Хотя бы потому, что идти неизбежно придется во многом своим путем, поскольку никакое механическое копирование и повторение чужого опыта в истории просто невозможно. Но, думается, что именно этот, казалось бы, самый трудный выбор является действительно реалистическим. Отечественные мыслители, развивавшие своеобразную метафизику «русской идеи», считали, что национальное единство невозможно без глубочайшего понимания и уважения иных традиций, иного духовного опыта. Они верили, что Россия может добиться успеха на этом пути, и, как нам представляется, были правы.
Читать дальше