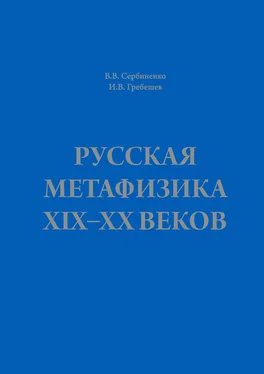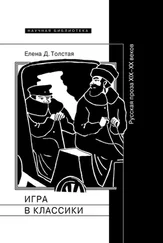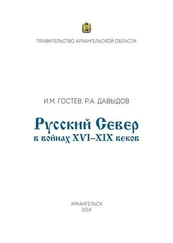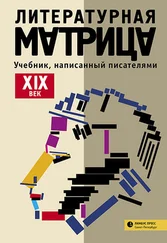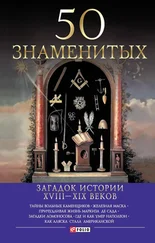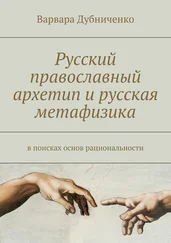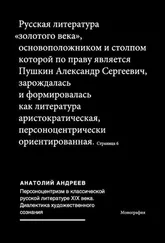Легко, конечно, увидеть в этих словах писателя лишь похвалу любимому поэту и собственному народу. Можно даже счесть их проявлением национальной гордыни. Бесконечно число восхвалений достоинств собственной нации, произнесенных в разные времена. И можно не сомневаться, что ряд этот будет продолжен. Достоевский действительно на пушкинском юбилее говорил о тех чертах своего народа, которые считал лучшими. Думается, что писатель, который, как возможно никто другой в русской литературе, сумел с предельным реализмом рассказать о самых мрачных сторонах российской жизни и национального характера, имел моральное право высказаться и о том, что считал светлым и положительным. Но дело даже не в этом. Достоевский, призывая Россию быть верной пушкинскому гению, формулировал идеал, который, по его убеждению, был нужен не только его стране и народу, но и всему человечеству. Он не звал Россию покорять другие народы (хотя бы и под знаком креста), порабощать их души идеологической и культурной экспансией. По сути, он говорил об огромной морально-исторической ответственности России перед собой и человечеством. Речь шла о даре понимания иного образа жизни, иных типов миросозерцания, который, верил Достоевский, есть у народа России, но который для своей реализации в истории требует колоссальных нравственных усилий. Но эти усилия необходимы, потому что человечество должно иметь выбор и не может смириться с неизбежностью национального отчуждения, с действующим и в каждом народе, и в межнациональных отношениях правилом «человек человеку волк». Достоевский отвергал путь революционного социализма, считая, что тот неотвратимо ведет лишь к «коммунистическому муравейнику», и когда в конце жизни он писал о «русском социализме», то имел в виду все ту же идею «всечеловеческого братства».
Общеизвестно критическое отношение писателя к цивилизационному прогрессу западного типа. Но выступал он не против европейских достижений в сфере культуры и цивилизации, а против исторической безальтернативности, утверждаемой идеологией европоцентризма, представляющей западный путь в качестве магистрального направления развития человечества, а все иные культурные традиции, по сути, как периферийные и едва ли не маргинальные. Не случайно в своих последних работах Достоевский размышлял о евразийской природе России, писал о том, что ее путь «лежит в Азию» и что пора покончить с «лакейской боязнью» прослыть в Европе «азиатами» и признать, что особенности национального характера и культуры в существенной мере связаны с духовным опытом народов азиатского континента. Эти мысли позднего Достоевского близки идеалам возникшего уже в XX веке евразийского движения. Хотя, конечно, было бы не вполне корректно видеть в писателе предтечу евразийства. Последнее в значительной степени явилось попыткой создания нового типа национальной идеологии, ориентированной на конкретный опыт революции 1917 года и послереволюционную ситуацию в России. Достоевский же в своих размышлениях об универсализме русской духовной традиции прежде всего отвечал на вопрос о смысле истории, и далеко не только российской. «Русская идея» у Достоевского – это метафизический принцип национального бытия России, но это и универсальный идеал национального бытия вообще. Идея «всечеловечности» может считаться русской только в той мере, в какой Россия сможет способствовать ее реализации в истории.
Метафизические идеи Достоевского серьезного идеологического влияния на российское общественное сознание не оказали. В этом нет ничего удивительного. Как известно, Пушкинская речь писателя была встречена с немалым энтузиазмом, но уже очень скоро наступило охлаждение. Как российские западники-либералы, так и представители консервативного лагеря осознали, что идеалы Достоевского слишком далеки от их собственных идеологических убеждений. Тем не менее традиция метафизического понимания «русской идеи» вскоре получила продолжение. Именно принципиальная неидеологичность позиции Достоевского была воспринята его младшим другом, религиозным философом Вл. Соловьевым.
Подход Соловьева к «национальному вопросу» уже изначально был, безусловно, метафизическим. «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности», – утверждал философ в докладе «Русская идея» [6] Соловьев В.С . Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 220.
. Эта формула Соловьева с классической ясностью фиксирует основные возможности и проблемы метафизики национального бытия. Он всегда считал, что не только личность и человечество в целом, но также и народ, нация имеют определенную метафизическую судьбу. Как и Достоевский, Соловьев апеллировал к христианскому универсализму, полагая, что тот несовместим и с национализмом – идеологией национального эгоизма, противоречащей принципу метафизического единства человечества, и с космополитическим глобализмом – идеологически принижающим историческое (и тем более метафизическое) значение национального своеобразия. Сам же тезис Соловьева «идея нации есть не то, что она думает о себе во времени» был направлен прежде всего против идеологии национальной исключительности.
Читать дальше