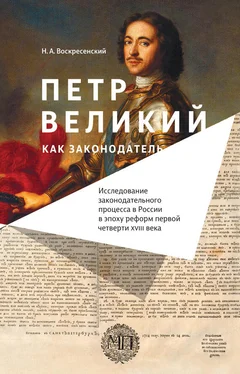Мы привели сравнительно небольшое количество фактов, и тем не менее они уже дают определенное представление о характере управления областной администрации при Петре. В ее обязанности входили не только сбор налогов, оказание содействия военным и судебным властям, борьба с разбоями и т. п., но и широкая область работы над поднятием культуры и развитием производительных сил вверенного ей [администрации] края. Эта сторона деятельности областных начальников и отражена в Инструкции воеводам. Поэтому нормы, изложенные в ней, содержали не мечтания законодателя и не предписания, заимствованные и перенесенные из другой, более культурной среды, а вполне реальные требования к каждому администратору, проводимые на практике и, по воззрениям законодателя, совершенно обязательные для «главы земского». Мало того, «годностью» к такой именно службе государству и определялась степень знатности лица в эпоху Петра [705].
Сделанный нами анализ источников, относящихся к законодательной выработке положений областной реформы 1718–1719 годов, приводит к выводу, что в основном эта реформа была плодом административного творчества Петра. В отдельных своих частях она начала складываться задолго до формального начала законодательной работы над ней, [еще] в сепаратных указах царя. Пересмотр и приведение в систему отдельных мероприятий были предположены Петром вместе с началом разысканий иностранных источников для реформы центральных учреждений, начиная с указа в 1715 года князю Долгорукому [706]. При выработке основных норм законодательные органы исходили из шведского административного устройства, при сопоставлении с которым русских административных порядков они имели возможность видеть черты сходства и различия в организации областей в том и другом государствах. При неоднократном обсуждении будущего закона в Сенате проект все более и более приближался к уже установленным русским административным порядкам, становился таким образом национальным. Эти русские черты областное устройство приобрело особенно в последний момент правотворческой работы – при выработке инструкций областным должностным лицам, и прежде всего воеводской. Новостью в реформе было установление камеральных должностей и снабжение их инструкциями, составленными на основании шведских, взятых в интерпретации камеррата Генриха Фика.
Те же черты серьезного, вдумчивого отношения к предмету обсуждения и полную самостоятельность в разрешении основных положений будущего закона можно наблюдать при законодательной выработке и других важных актов Петровской эпохи. Изучим на основании архивных источников приемы и характер законодательной работы над другими законодательными актами Петра I в этой стадии «экзаминации» закона – над Генеральным регламентом, Воинскими артикулами и Регламентом Главного магистрата. Условимся первоначальный проект называть первой (или А) редакцией, а последующие редакции – второй (Б), третьей (В) и т. д.
Генеральный регламент [707]имел рекордное для законов Петра количество чтений – редакций, а именно двенадцать [708]. Это обилие редакций объясняется исключительной важностью закона, так как им устанавливался новый, европейский порядок организации административных учреждений и ведения дел в них, общий для всех учреждений, центральных и местных. Как во вновь устанавливаемых учреждениях Петра, так и здесь при законодательной выработке норм старое встречалось с новым, поэтому приемы правотворчества в этом случае приобретают особый интерес, и, кроме того, они типичны вообще для всего законодательства Петра I.
Как мы уже указывали, текст проекта Генерального регламента после перевода его с немецкого языка был вследствие распоряжения Петра разослан по всем государственным коллегиям для исправлений [709]. Замечаний по этому поводу заинтересованных учреждений и лиц в архивах не находим, хотя, несомненно, проект был изучен в каждой коллегии и президенты, они же сенаторы, довели до сведения Сената свои замечания при общем его обсуждении. Необходимо указать, что проект изучаемого закона составлялся при деятельном участии Генриха Фика, который в основу русского регламента положил шведский «Cantselie Ordningh Cancellij Collegium» от 1661 года, 22 сентября [710]. Этот источник был известен русским законодательным органам не в переводе или подлиннике, а в интерпретации Фика. Он изложил его и дополнил в связи с событиями последних десятилетий, и в частности времени Карла XII, в докладной записке «Kúrze Beschreibúng der königlichen Schvedischen Reiches-Kanzeley, oder des Kanzeley-Kollegii in Stockholm» – «Краткое описание Королевско-шведской Государственной канцелярии, или Коллегия-канцелярии в Стокгольме» [711]. Стремясь перенести в Россию шведское государственное устройство, однако будучи не вполне знаком с государственными порядками, устанавливаемыми Петром в его сепаратных указах, Генрих Фик предложил в своем проекте много такого, что не могло быть принято ни Сенатом, ни Петром. Поэтому часть предложенных Фиком норм была вычеркнута, а часть – переделана в полном соответствии с духом и задачами проводимой реформы, со служебным характером и привычками русских служащих того времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу