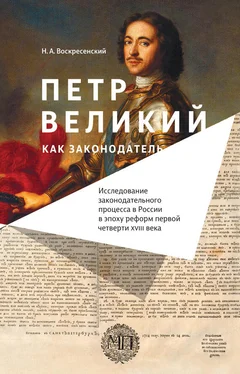Истинные основания отрицательного отношения сенаторов к кирхшпилю крылись в следующей характерной для них фразе: «К тому же и в уездех из крестьянства умных людей нет». Введение в русское областное устройство по шведскому образцу мелкой областной единицы – прихода – находилось в полном противоречии со сложившимся крепостным строем России [657]и теми отношениями, которые вследствие такого порядка установились между крепостными крестьянами и помещиками, с одной стороны, и между крепостными и государством – с другой. Введение ландсменов (старост) не как помещичьих приказчиков, а как органа общегосударственной власти, выбираемого самими же крестьянами, не могло ужиться с вотчинными правами владельцев земли – помещиков. Государство вторгалось бы в область отношений между помещиком и его крепостными, до сего времени никем не контролируемых. Мало того, в Швеции имелись «в каждом приходе некоторые люди, которые немдены [658]называются, которые при ландрихтере [659]в суде сидят и присуждают». К тому же в такие чины там не назначались, а выбирались «из крестьян люди умные и состояния доброго, также и пожиточные». А это противоречило бы вотчинной юстиции, владельческим правам собственников земли. Вследствие таких соображений сенаторы считали шведский порядок решительно неприемлемым; они полагали, что находящиеся в течение многих поколений под их опекой, судом и расправой крепостные крестьяне все без исключения «дураки», [что] «из крестьянства умных людей нет» [660]. При этом они [сенаторы] не хотели принять в расчет, что не только в Швеции, но и в России, на земском Севере, там, где не было помещиков, крестьянские миры без всяких опекунов отправляли свое земское дело и строили его неплохо.
Таким образом, наиболее яркая особенность, отличавшая шведское областное устройство от русского, не была принята Сенатом, была отвергнута им решительно, без доклада царю. Проект вследствие этого становился все более и более русским. Но решение Сената не было окончательным. Принятие или отклонение как данной нормы, так и других зависело от царя, от его отношения к сенатскому постановлению. Перейдем к изучению этого момента.
Согласно установленному в указе от 11 июня 1718 года самим Петром порядку сенатский первоначальный проект должен был поступить на дальнейшее обсуждение в Сенате в присутствии царя: «…где буду присутствовать и ставить на мере» [661]. Для дополнительного изучения состоявшееся постановление Сената было роздано в копиях сенаторам, участникам будущего обсуждения вопроса: «С таковой записки, с приговору, розданы копии сенатором и президентом всем ноября ж 3[‐го] дня» [662]. Такое обсуждение законопроекта в присутствии царя последовало 26 ноября того же, 1718 года.
В период между первым и вторым рассмотрениями вопроса были доставлены в Сенат два документа, весьма нужные для дальнейшей законодательной работы. Первый – Инструкция шведским ландсгевдингам, которую так давно разыскивали Фик и Нирод. Доставил ее сенатор Я. В. Брюс, получивший ее тайным образом «от своего друга», о чем он специальным доношением сообщал Петру 15 ноября того же года [663]. Во исполнение постановления Сената того же, 15-го, числа представил проект организации областных судебных органов президент Юстиц-коллегии А. А. Матвеев [664]. На другой день, 16 ноября, этот проект Матвеева был взят к сноске и выписке.
26 ноября 1718 года состоялось в Сенате вторичное обсуждение проекта – [теперь уже] в присутствии царя. На этом заседании были рассмотрены основные положения предыдущего сенатского изучения шведских и русских областных порядков. От него [от этого заседания] остались два документа, оба написанные рукой Петра. Первый из них содержал перечень должностей, которые намечалось ввести в русских областях [665]. В нем названия должностей были даны по-шведски или по-немецки с переводом на русский язык, например: «ланцгевдинг – глава земской», «обер-ландрихтер – вышней земской судья», «ландсекретарь – земской дьяк» и т. д. В результате оказалось, что для всех должностей нашлись русские названия, кроме двух: кирхшпильфохта и нотариуса. Этих последних не было в русском областном устройстве, не предположены они были и к установлению, поэтому и не нашлось для них обозначения по-русски.
В качестве общегражданских должностей были названы: для областной единицы – губернии или провинции – «ландсгевдинги, или главы земские», а для уезда, как стала с тех пор называться прежняя русская «доля» и проектируемый Фиком шведский «геррар», – «ландскомиссар, или земский комиссар». Не следует забывать, что земский комиссар не впервые был назван теперь и запроектирован к введению в русское областное устройство. Он, как видно из «Краткого описания», находился уже в области при ландрате в качестве его помощника специально по сбору податей с доли и земских дел: «Да с теми ж ландратами для управления всяких сборов и для земских дел в каждой доле быть комиссаром по одному». Таким образом, к двум периодам в истории института земских комиссаров, указанным М. М. Богословским, нужно прибавить еще один, до областной реформы 1718–1719 годов [666]. Это наблюдение дает основание заключить, что и самое название этой должности, подобно высшей в области – воеводы, не являлось даже переводом со шведского.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу