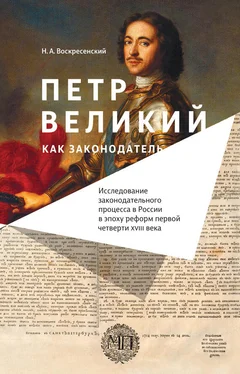В главах с XXXII и до XL можно, однако, усмотреть единство – в них перечисляются обязанности должностных лиц канцелярий и контор: в главе XXXIII – [положение] о секретарской должности; в главе XXXIV – о должности нотариуса; в главе XXXV – о должности «переводчиковой»; в главе XL – о «воспитальщиках» при коллегиях и т. д.
Наконец, последние главы, с XLI и до конца, имеют опять-таки чрезвычайно разнородное содержание и расположены также без всякой системы, например: глава LI – о состоянии передней палаты; глава LII – о земских чертежах; глава LIII – о «ручных» деньгах и т. д.
Вследствие такого расположения материала после прочтения первоначального проекта от него остается впечатление как от чернового наброска, от работы поверхностной, беспорядочной, составленной наспех лицом, теоретически как бы не подготовленным и притом не обладавшим знанием конкретных условий русской государственной жизни. Это первое впечатление подтверждается и анализом важнейших норм. Простое сопоставление соответствующих глав обоих исторических документов свидетельствует самым убедительным образом, что и в передаче содержания отдельных законодательных определений первоначальный проект столь же далек от богатства норм источника и точной очерченности в нем принципиальных сторон устройства коллегий.
Содержание отдельных глав составленного Фиком первоначального проекта Генерального регламента по сравнению со шведским источником порою слишком элементарно – можно сказать, примитивно. Возьмем для примера главу XIII «Cantselie Ordningh» – о юнкерах Канцелярной коллегии и главу XL первоначального проекта Генерального регламента – «О воспитальщиках при канцеляриях». «Чтобы такие молодые дворяне, – устанавливает шведский закон, –
которые благодаря своему усердию в науках и приобретенному в путешествиях опыту могли [бы] сделаться пригодными к использованию их на высокой службе к[оролевского] в[еличества] и отечества, имели возможность по возвращении на родину иметь материал для упражнения на нем и для дальнейшего расширения своих познаний, основываясь на практике, чему в особенности может содействовать Государственная канцелярия, то по желанию к[оролевского] в[еличества] четыре или (как максимум) шесть таких молодых дворян, которые окажутся пригодными для этого благодаря своему образованию или опыту, хорошим качествам и умелости, должны – после присяги и данного ими обязательства соблюдать верность и хранение тайны – быть привлечены к работе в Канцлерной коллегии в качестве коллегии юнкеров».
В интересах организуемых Петром I государственных коллегий ученый иноземец [1448]и прожектер Генрих Фик так реципировал применительно «к ситуации сего (русского. – Н. В. ) государства» изложенные выше нормы источника: «В протчем е[го] в[еличество] милостивейшее соизволение имеет, чтоб некоторые удобные люди, которые впредь при канцеляриях и конторах служить пожелают, по препорации каждой колегии заранее допущены и обучены имеют быть, дабы прилежным списыванием дел в письме и в арифметике чинились, чтоб при случающем простом месте, и когда они искусство получили и от доброй натуры и поступки суть, конечно могут определены быть» [1449].
В других случаях Фик слишком усложнял простой вопрос, точно очерченный в источнике, чрезвычайно подробной юридической разработкой деталей, совершенно ненужных в данной норме. Приведем для примера главу IX, пункт II «Cantselie Ordningh» – о подсудности по служебным преступлениям и проступкам служащих Канцелярной коллегии – и главу XXVII первоначального проекта Генерального регламента. В шведском законе сказано:
Если кто-либо из служащих Канцлерной коллегии, против ожидания, будет уличен в какой-либо неверности или упущении в работе, непочтительности к начальству или еще какой-либо достойной наказания ошибке, то он должен предстать в Канцлерной коллегии для ответа и там, как в соответствующем и надлежащем судебном месте, дело его должно быть решено. И должен быть составлен приговор и указано наказание в отношении жизни, чести или отрешения от должности или какое-либо другое. И этот приговор должен считаться таким же действительным и имеет такую же силу, как если бы дело было решено в другом каком-либо официальном судебном месте.
В проекте Фика, в главе XXVII – «О порядочном суде и процессном образе на время» – вопрос осложнен до крайности. Во-первых, служители коллегий по проекту Фика вообще пользуются изъятием из подсудности общим судебным и административным органам, с подчинением их суду своих коллегий; во‐вторых, [в ответ] на приговор коллегий ответчикам предоставляется право «просить о ревизии» непосредственно «его величество», а не Сенат; в‐третьих, он [этот проект] устанавливает условием для вхождения в силу решения коллегии отсутствие протеста со стороны фискала, при наличии которого [протеста] дело переносится также на разрешение верховной власти; в‐четвертых, устанавливается особая подсудность членов коллегий «ради их персоны», «а наипаче что к знатным членам колегии касается», – надворному суду, «однакоже от которого оным до е[го] ц[арского] в[еличества] вольность ревизии допускается»; в‐пятых, устанавливается особая подсудность членов коллегий «ради недвижимых имуществ – суд, под которым управлением обретающиеся земли надлежат» – и, наконец, в‐шестых, проектируется особая, исключительная подсудность для самого автора и его иноземных коллег: «Иностранные колегейные служители имеют по персонам, как в частных (гражданских. – Н. В. ), так и розыскных тяжбах, следуя договорным милостивейшим привилиям [1450], оные по германским и римским правам суждены быть» [1451].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу