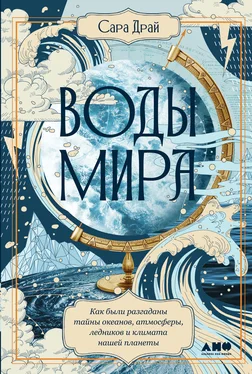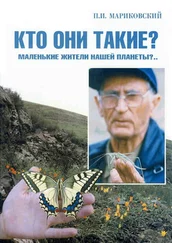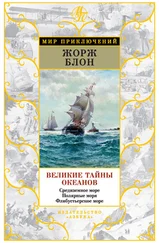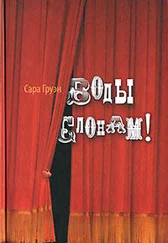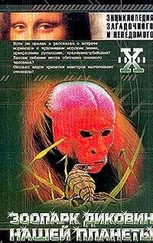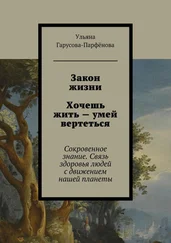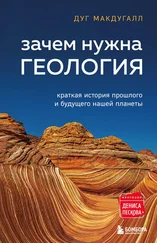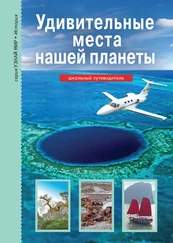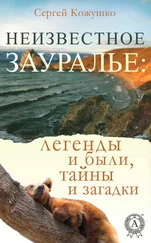Стоммел рассмотрел проблему эксперимента еще в 1963 г. в статье «Разновидности практического знания в океанографии», опубликованной в журнале Science . Делая, казалось бы, парадоксальную ссылку на классическое исследование религии Уильяма Джеймса, Стоммел утверждал, что к каждой океанографической экспедиции следует подходить как к научному эксперименту: «Если мы рассматриваем экспедицию как научный эксперимент, это означает, что она должна давать ответы на конкретные вопросы…» [284] Stommel, «Varieties,» 572.
При этом необходимо принимать во внимание тот широкий диапазон масштабов, в которых происходят океанические явления – «разновидности океанографического опыта». Океан, как становилось все более ясно, был удивительно разнообразен в масштабах времени и пространства. Следовательно, чтобы разработать хорошие эксперименты, которые могли дать четкие результаты, следовало учитывать это разнообразие. Как показали результаты экспедиции на «Эриз», бесполезно было полагаться на статистику и усредненные данные. Чтобы ответить на конкретные вопросы – скажем, объяснить изменение уровня моря в конкретном океаническом бассейне, – требовалось задать эти вопросы с учетом масштаба. Для этого Стоммел включил в статью диаграмму, визуально представлявшую весь диапазон масштабов, в которых происходили энергетические изменения в океане: от гравитационных волн в сотни метров длиной, существовавших всего несколько минут; приливно-отливных колебаний, имевших дневную и месячную периодичность; метеорологических воздействий, происходивших в сходных масштабах, но с гораздо меньшей регулярностью; и до монументальных изменений наподобие ледниковых периодов, охватывавших много тысяч лет и километров. Эта диаграмма была типична для Стоммела – обманчиво простой инструмент упорядочивания сложности. Она представляла собой энергетическую карту океана, и, как призывал исследователь, должна была стать дорожной картой для океанографов, если они действительно хотели постичь происходящее в океане посредством доступных им наблюдений. Задача была невероятно трудна, но Стоммел верил: если вопросу масштаба уделить должное внимание, есть все основания надеяться на то, что в будущем «теория и наблюдение будут наконец-то развиваться вместе, в более тесной взаимосвязи» [285] Более подробно о диаграмме Стоммела см.: Tiffany Vance and Ronald Doel, «Graphical Methods and old War Scientific Practice: The Stommel Diagram's Intriguing Journey from the Physical to the Biological Environmental Sciences,» Historical Studies in the Natural Sciences 40, no. 1 (2010): 1–47. Stommel, «Varieties,» 575.
.
Вместе с коллегами Карлом Вуншем, Фрэнсисом Бретертоном, Алланом Робинсоном и другими Стоммел разработал план поисков вихря в открытом океане [286] Позже к ним присоединились коллеги из Вудс-Хоула, Массачусетского технологического института, Гарвардского и Йельского университетов, Атлантической океанографической и метеорологической лаборатории Национального управления океанических и атмосферных исследований, Университета Род-Айленда, Университета Джона Хопкинса, Колумбийского университета и Океанографического института Скриппса.
. Ученым нужно было точно выверить размер ячеек своей экспериментальной сети: если бы они были слишком велики, вихрь мог остаться незамеченным; если слишком малы – исследователи увидели бы только его часть. По выражению Стоммела, весь океан представлял собой проблему гидродинамики – движения воды – в масштабе «больше лаборатории, меньше звезды». Кроме того, искомый вихрь имел определенные размеры (хотя о них пока можно было только гадать), что требовало соответствующего масштабирования детекторов [287] Stommel, «Future Prospects,» 1536.
. В конце концов Стоммел и его коллеги решили, что подходящими по размеру «охотничьими угодьями» будет участок океана площадью около 780 кв. км и глубиной около 4 км. Исследователи намеревались раскинуть сеть из детекторов, а затем, как сидящие в засаде охотники, просто ждать – в надежде на то, что нужный им вихрь пройдет через эту область в течение выделенного для эксперимента времени.
По их расчетам, для охоты на вихрь требовалось шесть судов, два самолета, десятки заякоренных буйковых станций, подводных поплавков, «теряемых» зондов для измерения воздушного потока и – для установки на дне океана – 121 прибор, измеряющий давление [288] Jochum and Murthugudde, Physical Oceanography: Developments since 1950 , 51.
. Чтобы развернуть такой сложный комплекс измерительной аппаратуры и обеспечить ее мониторинг в ходе эксперимента, к участию в проекте привлекли 50 океанографов из 15 исследовательских институтов, в том числе разработчиков теоретических моделей, которые впервые вошли в состав океанографической экспедиции [289] B. J. Thompson, J. Crease, and John Gould, «The Origins, Development and Conduct of WOCE,» in Ocean Circulation and Climate: Observing and Modelling the Global Ocean , ed. Gerold Siedler, John Church, and John Gould (San Diego, CA: Academic Press, 2001), 32.
. Эксперимент должен был проходить в районе между Бермудскими островами и Флоридой и продлиться четыре с половиной месяца. В нем планировалось использовать новые измерительные станции, созданные на основе гидролокационной технологии «Софар» (SOund Fixing And Ranging, SOFAR), которые можно было заякорить в определенных местах в океане, чтобы они измеряли температуру, скорость и соленость текущей мимо воды. Параллельно с ними должны были использоваться и свободно дрейфующие поплавки, предназначенные для отслеживания движения водных масс.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу