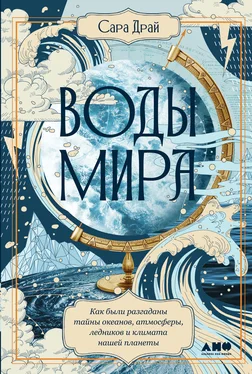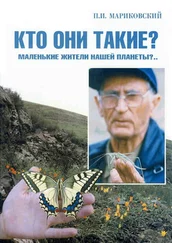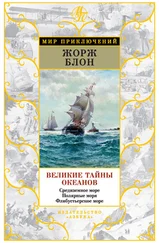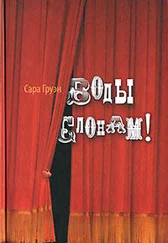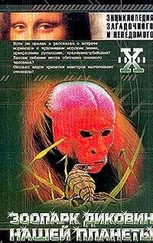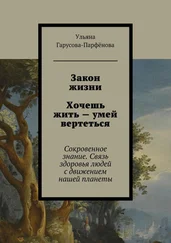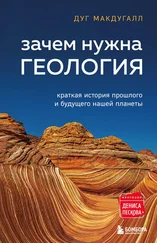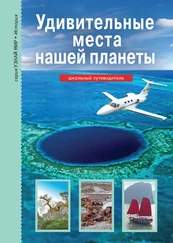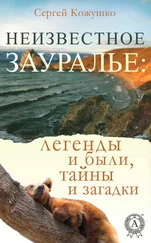Это открытие изменило образ мышления океанографов [268] «Когда этот вопрос начинает рассматриваться как глобальная структурная проблема, в которой Гольфстрим является частью выраженно асимметричной циркуляционной ячейки, характер этого процесса меняется фундаментальным и необратимым образом. Отныне Гольфстрим является частью общей океанической циркуляции, а не любопытным географическим явлением». Joe Pedlosky, introduction to chapter 1 of Stommel, Collected Works , II-7.
. Вместо того чтобы рассматривать Гольфстрим как независимое и изолированное океаническое явление, похожее на льющийся из садового шланга поток воды (каким он виделся даже Россби), Стоммел представил его как часть круговорота воды, охватывающего весь Атлантический бассейн. Другими словами, он показал, что Гольфстрим не существует отдельно от общей системы океанического бассейна и понять его можно только как ее составляющую. В свете этого Гольфстрим – и вся система – получил физическое и математическое обоснование. Но за это пришлось заплатить свою цену: отныне океан можно было рассматривать только как единое целое. В гидродинамическом механизме океана, открытом Стоммелом, все части были взаимосвязаны.
Для коллег, которые утруждали себя тем, чтобы прочитать его научные работы и вникнуть в их смысл, они становились одновременно откровением и вызовом. Из-за обманчиво скромной «упаковки» и слишком непривычного для океанографии языка исследования не привлекали к себе широкого внимания. Но имевшие уши услышали многое. Работы Стоммела и стоявшие за ними идеи вызвали к жизни всплеск интереса к теоретическим моделям океана и серию экспедиций, ставивших своей целью проверить эти теории. То и другое происходило параллельно, благодаря чему возникло нечто вроде того самого процесса постепенной отработки идей, который Стоммел считал основой творческого научного мышления. И этот процесс заметно набирал обороты.
Постепенно начали появляться новые модели океана – смелые и экспрессивные, как картины Ротко. Не в пример старым атласам в них океан представал куда более активной стихией. Вода двигалась в нем не только под влиянием плотности, но и под воздействием ветра. Однако, несмотря на новые мазки – новые силы, участвующие в жизни океана, – эти теоретические модели по-прежнему были ограничены воображением своих создателей. А оно питалось данными, которые добывались с помощью механических приборов, сконструированных в прошлом веке, и потому не могло выйти за рамки старой парадигмы. Таким образом, теоретики, по сути, пытались нарисовать новый портрет старого океана – медленного, вязкого и, если говорить научным языком, ламинарного, разделенного на упорядоченные, плавно текущие водные слои.
Работа Стоммела 1948 г. и вдохновленные ею последующие теоретические исследования способствовали утверждению идеи, что океан представляет собой подвижную жидкую среду, процессы в которой теоретически могут быть объяснены физическими законами гидродинамики. Но – и в этом была вся загвоздка – имевшихся физических знаний было недостаточно, чтобы в полной мере описать движение океанических вод. Океан был слишком велик и слишком сложен для существовавших на тот момент уравнений – и вычислительных мощностей. (Во многом он остается слишком большим и сложным даже для современной науки.) Успешное предсказание Стоммелом глубокого пограничного течения было скорее исключением, чем правилом. Новые идеи – то, что Стоммел называл «образами-затравками», из которых вырастает новое понимание океана, – чаще всего генерировались не «закваской» из физических теорий, а новыми наблюдениями. А чтобы получить такие наблюдения, требовалось изобрести новые способы получения данных об океане.
Портреты океана, нарисованные специалистами в первые годы после публикации в 1948 г. работы Стоммела, были похожи на картины пуантилистов, в которых бóльшая часть мазков стерта. Они были одновременно относительно точны и фрагментарны. Но эти портреты возникли не как плод научного воображения, а как результат многочасового кропотливого труда – сначала в мастерских, где технари ломали голову над тем, как соорудить что-то достаточно прочное, что сможет выдержать колоссальное давление на океанских глубинах и разрушительное воздействие воды и соли, но при этом достаточно чувствительное, чтобы обеспечить точные измерения, – а затем на исследовательских судах, где все эти приборы использовались для получения новых данных об океане. Именно из этих новых картин, какими бы несовершенными они ни были поначалу, постепенно рождалось совершенно новое ви́дение океана. В 1950 г., всего через два года после легендарного эксперимента с пастернаком на озере, состоялась первая экспедиция по изучению Гольфстрима с участием нескольких судов. Она ознаменовала собой начало 20-летнего периода исследований, которые в корне изменили наше представление об океане: он стал восприниматься не как медленно текущая патока, а как турбулентная жидкая среда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу