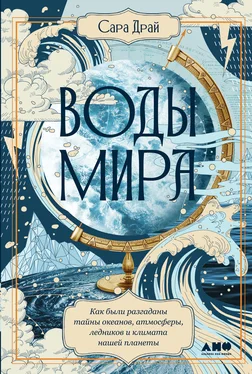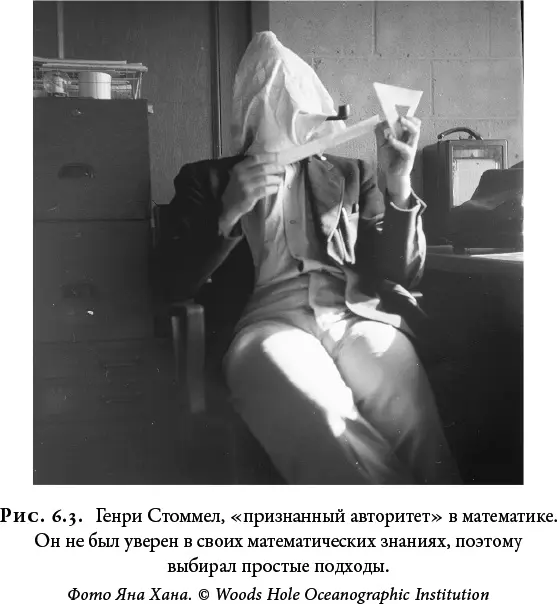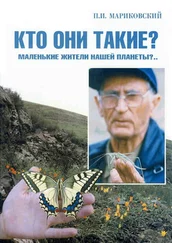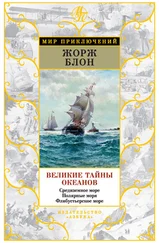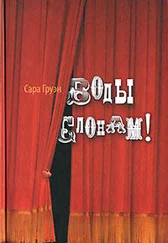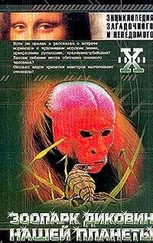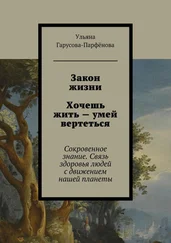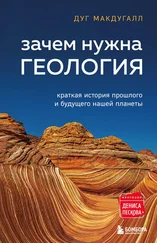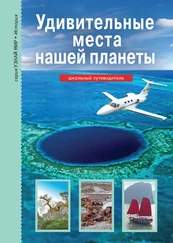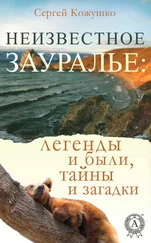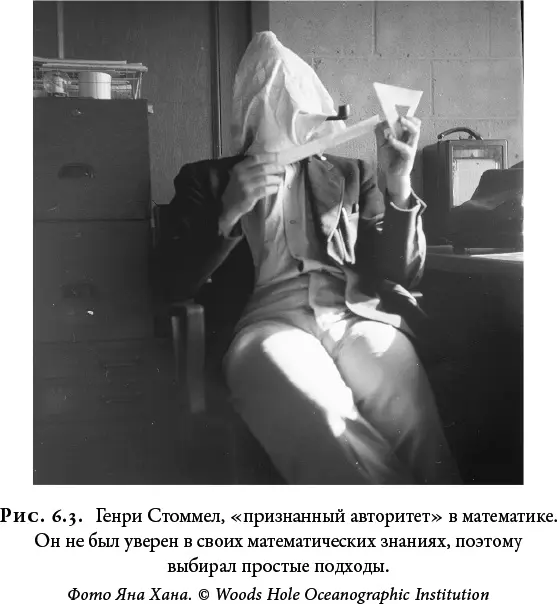
Ричардсон не испытывал подобных внутренних конфликтов. Полет его мысли не знал ограничений, а сила воображения намного превосходила вычислительные возможности того времени. Так, он рассчитал, что для реализации его мечты о численном прогнозировании погоды требуется огромная вычислительная мощь, которую – в те времена, когда единственным вычислительным устройством был человеческий мозг, – Ричардсон оценил в 64 000 «человеческих компьютеров». Но эта цифра его не смутила. Он был увлечен идеей о том, что будущее состояние атмосферы можно прогнозировать на основе знания ее текущего состояния и конечного набора уравнений, которые описывали бы движение частиц воздуха.
Конечно, Ричардсон признавал, что науке пока не хватает знаний, чтобы свести все характеристики атмосферы к простым уравнениям, и некоторые особенности погоды требуют дальнейшего изучения. Поэтому он ратовал за проведение исследований в водном «фундаменте» великого метеорологического «театра», в частности за изучение так называемых вихрей – мощных, закручивающихся спиралью потоков воды, которые образуются в крупных морских течениях, таких как Гольфстрим. Турбулентность была слишком значимым и интересным явлением, чтобы оставлять его без внимания. В то же время можно – и даже необходимо – было приступать к решению численных задач, не дожидаясь, пока это явление станет полностью понятно. Ричардсон начал исследования турбулентности с наблюдений за воздушными шарами и струями дыма, затем продолжил с помощью мысленных экспериментов и, наконец, оказался вместе со Стоммелом на берегу озера с миской нарезанного пастернака в руках.
Стоя в конце причала и бросая в воду по два кусочка пастернака, Ричардсон и Стоммел смотрели, как те удаляются друг от друга, и пытались выявить закономерность. На основе своих наблюдений за 45 парами пастернака, дрейфующими по поверхности шотландского озера, они пришли к выводу, что в озерной воде энергия распространяется точно так же, как в атмосфере. Этот результат перекликался со статьей, опубликованной Ричардсоном почти 30 лет назад, в 1920 г., в которой было выдвинуто контринтуитивное предположение, что вихри действуют как «термодинамические двигатели в пребывающей под воздействием силы тяжести атмосфере», которые увеличивают, а не рассеивают энергию системы [259] L. F. Richardson, «The Supply of Energy from and to Atmospheric Eddies,» Proceedings of the Royal Society A97 (1920): 354–373.
. Совместная статья Ричардсона и Стоммела вошла в историю как своей дерзкой первой строкой («Наши наблюдения за относительным движением двух плавающих кусочков пастернака показали»), так и заключительным выводом о том, что в атмосфере и океане наблюдаются схожие формы турбулентной диффузии [260] L. F. Richardson and Henry Stommel, «Note on Eddy Diffusion in the Sea,» Journal of Meteorology 5 (1948): 238–240.
. При этом ученые отметили важную роль масштаба: то, что происходит в ванне с водой, значительно отличается от того, что происходит в озере, а происходящее в океане еще сложнее.
Но не статья о пастернаке, а новая публикация Стоммела, посвященная Гольфстриму, вызвала всплеск интереса к этой теме: началась новая эра исследований этого океанического течения, что, в свою очередь, привело к более глубокому пониманию общих принципов циркуляции воды в океанах. Однако вопросам о роли турбулентности в циркуляции океана, поднятым Стоммелом после встречи с Ричардсоном, пришлось ждать своего часа. Эти проявления движения воды невозможно было ни объяснить, ни игнорировать – они были подобны призрачному морскому существу, которое видели лишь мельком и об истинной природе которого ничего не было известно. А пока Стоммел охватывал мысленным взором разномасштабные явления – от круговорота воды в океаническом бассейне, где Гольфстрим был всего лишь одной из составляющих, до тех сил, которые заставляли плыть по той или иной траектории кусочки пастернака, – и пытался связать их воедино. Но потребовались годы и даже десятилетия, прежде чем эти две модели океана – в большом и малом масштабе – сложились в понимании океанографов в единое целое. Когда это произошло, забавная попытка исследовать турбулентную диффузию при помощи кусочков пастернака на шотландском озере предстала первым важным шагом к глобальному пониманию океана. Но пока все это было делом будущего.
* * *
Вода в океане создает мощнейшее давление. Толща воды всего в 10 м давит с той же силой, что и вся толща земной атмосферы. На глубине 2 км давление воды возрастает до 200 земных атмосфер. Именно поэтому глубины земного океана остаются почти таким же малоизученным местом, как поверхность Луны. И именно поэтому океанографам потребовалось так много времени, чтобы объяснить те эмпирические знания, которые известны любому моряку. Опытные моряки знают, что вода движется очень быстро, одновременно упорядоченно и хаотично; они знают, где какие течения проходят и где какие ветры дуют; и они также знают, что океан очень изменчив. Но эти знания не дают объяснения тайнам водной стихии. Чтобы проникнуть в эти тайны, нужны измерительные приборы и идеи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу