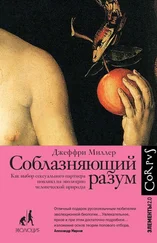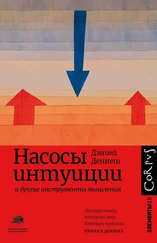Эволюция мемов создает условия для эволюции пользовательского интерфейса, который делает мемы «видимыми» для «нашего я», которое общается с другими «я», как центра нарративной гравитации (Dennett, 1991), автора слов и дел. Если требуется общее внимание к некой общественной теме (см. дискуссию Томаселло в главе 12), должны быть вещи – возможности, на которые обратят внимание и первый, и второй человек, и это именно то, что делает нашу картину мира явной для нас . Если у нас нет возможности поговорить с кем-то о наших текущих проектах и мыслях, о наших воспоминаниях, как было раньше чудесно и тому подобное, наш мозг не тратил бы время, энергию и серое вещество на подготовку дайджеста по текущей деятельности, из которого состоит поток нашего сознания. Тот, кто обладает ограниченным доступом к тому, что происходит в его мозгу, отлично подготовлен к восприятию новых мемов, распространению старых мемов и сравнению впечатлений с другими. А что такое «Я»? Это не специальный отдел нейронной сети, но, скорее, конечный пользователь операционной системы. Как написал Дэниел Вегнер в своей потрясающей книге «Иллюзия сознательной воли» [198] Дэниел Вегнер (1948–2013) – американский психолог, профессор психологии Гарвардского университета и член Американской ассоциации развития науки и Американской академии искусств и наук. Наибольшую известность обрела его книга «Иллюзия сознательной воли», она переведена на русский язык (доступна на электронных ресурсах).
(Daniel Wegner. The Illusion of Conscious Will, 2002). «Мы, очевидно, не способны распознать (не говоря уж о том, чтобы отследить) невероятное количество механических воздействий на наше поведение, поскольку мы существуем внутри чрезвычайно сложной машины» (стр. 27). Разве не удивительно, как легко мы соглашаемся с Вегнером в этом кажущемся дуалистическим видении самих себя как отдельных оккупантов наших тел! Эти машины, «в которых мы живем», упрощают вещи для нашей же пользы: «Впечатление наличия воли, таким образом, это способ, посредством которого наш разум представляет свои действия нам, а не реальные процессы» (стр. 96).
Любопытно, что наша точка зрения первого лица на наш собственный разум мало отличается от точки зрения второго лица на другие разумы: мы не видим, не слышим и не чувствуем сложного нейронного механизма, пыхтящего в нашей голове, и должны удовлетворяться интерпретацией, разжеванной версией, иллюзией пользователя, знакомой нам настолько, что мы принимаем ее не только за реальность, но самую детально известную и не подвергаемую сомнению реальность из всех возможных. Вот это и есть «быть нами». Мы узнаем о других из того, что они говорят или пишут нам, и это похоже на то, как мы узнаем о самих себе. Великий невролог Джон Хьюлингс Джексон [199] Джон Хьюлингс Джексон (англ. John Hughlings Jackson; 1835–1911) – английский невролог, автор трудов о коре головного мозга, об афазии и др. Именем Джексона названа описанная им форма эпилепсии.
однажды сказал: «Мы говорим не только для того, чтобы высказать окружающим нашу точку зрения, но и для того, чтобы сообщить самим себе, что мы думаем» (John Hughlings Jackson, 1915). Я, как и многие другие коллеги, неверно цитировал писателя и критика Э. М. Форстера [200] Эдвард Морган Форстер (англ. Edward Morgan Forster, 1879–1970) – английский писатель, критик, писал о неспособности людей различных социальных (классовых, этнических) групп понять и принять друг друга. На русский переведены многие его рассказы и эссе.
: «Как я узнаю, что я думаю, пока не пойму, что я говорю?» Хотя Форстер и приводил версию этого высказывания в сборнике критических статей (Aspects of the Novel, 1927), это был на самом деле сарказм, намекавший на известный ранее анекдот. Широко распространилась вирусная мутация мема Форстера, по мнению Хикса (R. J. Heeks, 2013); он показал, что цитата в контексте была насмешкой над писательскими методами Андре Жида.
Другой утонченный критик согласился с Жидом: это та пожилая леди из анекдота, обвинявшая племянниц в отсутствии логики. Некоторое время до нее никак не доходило, что такое логика, но когда она осознала ее истинную природу, она не столько разгневалась, сколько переполнилась презрением. «Логика! Боже милостивый! Что за вздор!» – восклицала она. «Как я могу сказать вам, что я думаю, пока не пойму, что говорю?» Ее племянницы, образованные молодые женщины, думали, что она устарела; но на самом деле она была куда современнее, чем они» (Forster, 1927, стр. 71).
Я счастлив внести ясность – и даже более чем ясность, поскольку не смог найти никаких следов анекдота про леди и племянниц, однако хотел бы предположить, что Форстер прошел мимо важной, хотя и парадоксальной, возможности, не обратив на нее внимания. Наш доступ к собственным мыслям, и в особенности к причинности и динамике субличностных частей, ничем не отличается от нашего доступа к процессу пищеварения; мы вынуждены полагаться на скупой и серьезно отредактированный канал, который на наше неутолимое любопытство отвечает удобными для пользователя сообщениями, делая нас всего на шаг ближе к реальному «я», чем тот образ, который любят наши друзья и родственники. Еще раз: сознание не просто разговор с самим собой; оно включает в себя все виды самостимуляции и рефлексии, что мы накопили и совершенствовали в течение всей нашей сознательной жизни. Это не только то, что происходит в наших мозгах; это еще и типы поведения, которые мы практикуем (Humphrey, 2000, 2006, 2011), частично «инстинктивно» (благодаря генетической эволюции), а большей частью в результате обучения (в ходе культурной эволюции, благодаря распространению информации, индивидуальному опыту).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
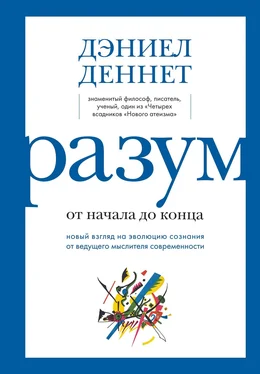





![Берндт Хайнрих - Зачем мы бежим, или Как догнать свою антилопу [Новый взгляд на эволюцию человека] [litres]](/books/386118/berndt-hajnrih-zachem-my-bezhim-ili-kak-dognat-svo-thumb.webp)
![Джеффри Миллер - Соблазняющий разум [Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы] [litres]](/books/401316/dzheffri-miller-soblaznyayuchij-razum-kak-vybor-seksu-thumb.webp)