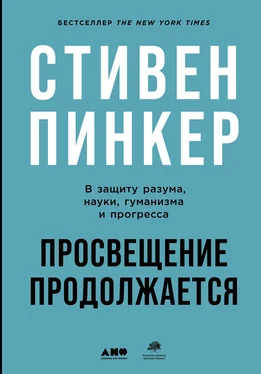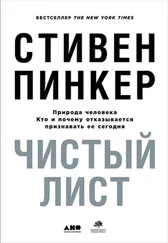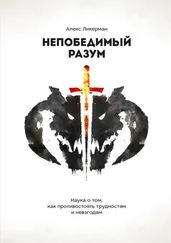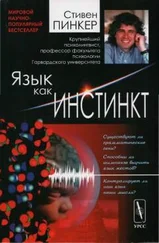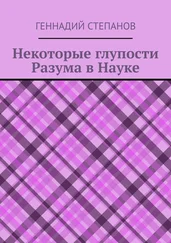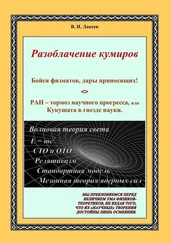Вооруженные этими уроками об уроках, психологи недавно разработали более эффективные учебные программы логического и критического мышления, которые помогают слушателям замечать, определять и исправлять недостатки рассуждения в самом разном контексте [1124] Эффективное обучение критическому мышлению: Bond 2009; Gigerenzer 1991; Gigerenzer & Hoffrage 1995; Lilienfeld, Ammirati, & Landfield 2009; Mellers et al. 2014; Mercier & Sperber 2011; Morewedge et al. 2015; Tetlock & Gardner 2015; Willingham 2007.
. Иногда такие программы используют компьютерные игры, которые обеспечивают учащимся практику и обратную связь, наглядно демонстрируя абсурдные последствия сделанных ими ошибок. Помогает и разъяснение трудных для понимания математических концепций на конкретных жизненных примерах. Используя подходы успешных суперпрогнозистов, Тетлок составил руководство по трезвому прогнозированию (начинайте с расчета базового уровня вероятности; ищите доказательства, не переоценивайте и не недооценивайте их; не настаивайте на своих ошибках, но используйте их для уточнения прогноза). Мы четко видим, что такие учебные программы работают: прошедшие курс слушатели прочно усваивают новые навыки и самостоятельно начинают использовать их в новых обстоятельствах.
Несмотря на успешные примеры и на тот факт, что умение рассуждать критически и непредубежденно – необходимое условие для мышления о чем бы то ни было, лишь немногие из учебных заведений поставили перед собой цель поощрения рациональности. (Это касается и того университета, где преподаю я сам: при обсуждении нового учебного плана я предложил в обязательном порядке знакомить студентов с когнитивными искажениями, но эта идея не встретила понимания.) Многие психологи призывают коллег «распространять знание о борьбе с искажениями», потому что это один из наиболее значительных вкладов в благополучие человечества, какой только может сделать наша наука [1125] Распространение программ по борьбе с когнитивными искажениями: Lilienfeld, Ammirati, & Landfield 2009.
.
~
Но эффективных программ обучения критическому мышлению и борьбы с когнитивными искажениями недостаточно, чтобы избавить людей от мышления, оберегающего идентичность, которое заставляет их цепляться за любые воззрения, способствующие повышению статуса их группы и их собственного статуса внутри группы. Именно эта болезнь в первую очередь опасна в политической сфере, но ученые до сих пор неверно описывают ее механизм, ссылаясь на иррациональность и научную безграмотность, хотя истинная причина тут – близорукая рациональность трагедии интеллектуальных общин. Как заметил один автор, ученые часто общаются с широкой публикой, как англичане с иностранцами: повторяют то же самое помедленнее и погромче [1126] См. P. Voosen, “Striving for a Climate Change,” Chronicle Review of Higher Education, Nov. 3, 2014.
.
Значит, чтобы сделать мир разумнее, мало научить людей правильно думать и отпустить их на все четыре стороны. Важны и правила ведения споров на рабочем месте, в дружеском общении, на дискуссионных площадках и в сфере принятия решений. Эксперименты показали, что верный набор таких правил позволяет преодолеть трагедию интеллектуальных общин и убедить людей не привязывать свое мышление к идентичности [1127] Повышение качества дискуссий: Kuhn 1991; Mercier & Sperber 2011, 2017; Sloman & Fernbach 2017.
. Одну работающую методику давным-давно изобрели раввины: они заставляли учеников йешивы меняться ролями в талмудических спорах, защищая позицию, противоположную собственной. Есть и другая – предлагать участникам искать консенсус в рамках небольших дискуссионных групп; таким образом, они вынуждены отстаивать свое мнение перед коллегами, и истина обычно торжествует [1128] Истина торжествует: Mercier & Sperber 2011.
. Сами ученые наткнулись еще на одну такую стратегию, которую назвали состязательным сотрудничеством: заклятые противники сообща пытаются добраться до истины, организуя такую эмпирическую проверку, результаты которой они все заранее соглашаются считать убедительными [1129] Состязательное сотрудничество: Mellers, Hertwig, & Kahneman 2001.
.
Но даже элементарное требование развить собственную мысль способно лишить человека неоправданной уверенности в своей правоте. Люди, как правило, переоценивают степень понимания ими мира: это когнитивное искажение, которое называют «иллюзией глубины понимания» [1130] Иллюзия глубины понимания: Rozenblit & Keil 2002. Использование этой иллюзии для избавления от когнитивных искажений: Sloman & Fernbach 2017.
. Мы уверены, что знаем, как работает застежка-молния, цилиндровый замок или унитаз, но, как только нас просят это подробно объяснить, мы вынуждены признать, что и понятия не имеем. То же самое касается и болезненных политических вопросов. Когда людей с железобетонными убеждениями по поводу программы медицинского страхования «Обамакэр» или Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) просят объяснить, в чем суть этих мер, они мгновенно осознают, что вообще не понимают, о чем разговор, и проявляют большую готовность выслушивать контраргументы. Важнее всего, вероятно, то, что люди меньше подвержены когнитивным искажениям, когда вопрос касается лично их и им придется жить с последствиями своих суждений. Анализируя публикации, посвященные рациональности, антропологи Хьюго Мерсье и Дэн Спербер пишут: «Вопреки общепринятой безрадостной оценке умственных способностей человека, люди вполне способны размышлять рационально, как минимум когда они оценивают аргументы, а не выдвигают их и когда они видят своей целью поиск истины, а не победу в споре» [1131] Mercier & Sperber 2011, p. 72; Mercier & Sperber 2017.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу