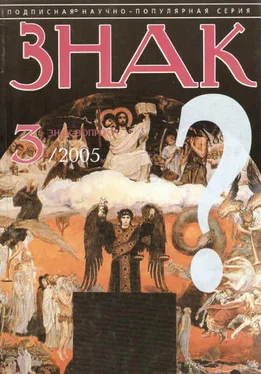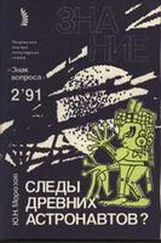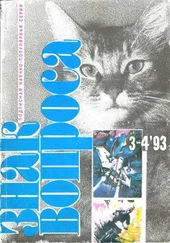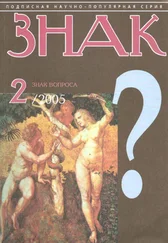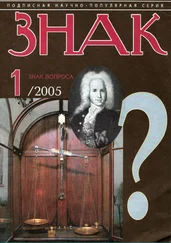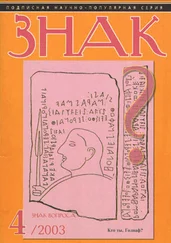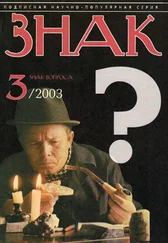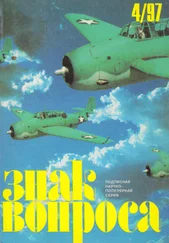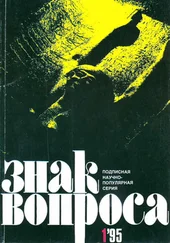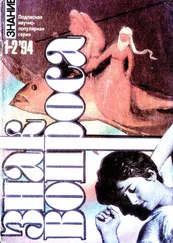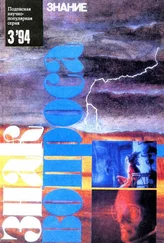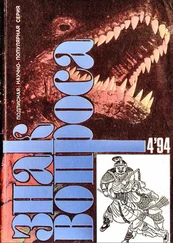Так Нострадамус одержал победу над измышлениями Геббельса.

Н. Б. Шулевский
СОКРАТ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ВОПРОСА
Об авторе:
Шулевский Николай Борисович — доктор философских наук, профессор МГУ, автор работ «Философия как книга объективного знания», 2001 г., «Интеллектуализм и героизм как принципы метафизики», 2003 г., «Метафизика России и терроризм», 2004 г., многочисленных публикаций на тему о сущности духа, мысли, интеллекта.
Все быстротечное —
Символ, сравнение.
Гёте
О Сократе вообще. Нет в истории мысли фигуры более загадочной и таинственной, чем Сократ. Даже общегреческий оракул в Дельфах удостоил его высшей своей награды, заявив, что «Сократ превыше всех своею мудростью», полагая, видимо, что знания философа превыше даже самой сакральной мудрости оракулов. Свыше двух с половиной тысячи лет его жизнь, учение, казнь (то ли самоубийство?) вызывают тревогу и сомнения в правомерности самой жизни, осужденной диалектикой на испытания, которые превосходят ее внутренние природные силы. Редкий случай: чем больше аналитики изучают Сократа, пытаясь постичь загадку его жизни, тем темнее становятся окружающие ее тучи. Усилия по разгадке скрытой мудрости Сократа до сих пор лишь укрепляли прочность самой загадки. Стремления к пониманию древнего мудреца как-то незаметно оборачиваются ростом его непонимания, которое к тому же умножает и незнание любым исследователем самого себя. К изучению Сократа вполне применимо библейское: «…Кто умножает познания, умножает скорбь» (Еккл. 1, 18). И скорбь не только для себя, но и для окружающих.
Значит, на феномен Сократа нужно взглянуть с иных позиций, привлечь мало привлекаемые и малопривлекательные факты. Наша гипотеза гласит: тайна судьбы Сократа скрыта в его диалектике, точнее, в диалектическом коварстве сути вопроса вообще. Загадка Сократа скрыта в символе вопроса, воплощением которого он стал не по воле богов, не по воле судьбы и не по собственному желанию. Но добровольно он и не пытался отречься от данайских даров, скрытых в символе вопроса.
Вначале краткие биографические данные. Жил в период величия Афин, победивших Персию, и в период их ничтожества после поражения в Пелопонесской войне со Спартой (431–404 гг. до н. э.). Сын афинянина Софроникса, то ли каменотеса, то ли рядового скульптора, и Фенареты — повивальной бабки. Получил подобающее молодому афинянину «мусическое и гимнастическое воспитание», т. е. фундаментальное по тем временам гуманитарно-художественное и военно-спортивное образование. Сведущ был в математике, астрономии.
В имущественном плане был скорее беден, особо не занимался хозяйством, ибо все его внимание поглощала философия. Груз домашних забот и воспитания троих сыновей Сократа пал на Ксантиппу, которая, мягко говоря, совсем не одобряла семейную беззаботность своего мудреца.
Участвовал Сократ в двух военных походах в качестве гоплита, тяжеловооруженного пехотинца, проявив незаурядное мужество, самообладание, стойкость в сражениях и в перенесении тягот военной жизни. Мужественно вел себя в принудительно-демократических процедурах власти. Сократ был единственным, кто, рискуя жизнью, выступил против казни шести стратегов, обвиненных в нечестии, ибо во время тяжелейшего сражения они не сумели воздать павшим всех почестей, стремясь окончательно разгромить врага. Открыто проявил неповиновение власти тридцати тиранов во главе с Критием.
Профессионально Сократ ничем определенным не занимался, если не считать профессией умение искусно завязывать беседы с любым человеком на любые темы. Внешне в жизни Сократа все просто, ясно, прозрачно, что он выразил и в своих знаменитых афоризмах. «Я знаю только то, что я ничего не знаю!» Изречение Дельфийского оракула «Познай самого себя!» благодаря Сократу стало жизненным принципом классического грека. По словам К. Маркса, Сократ «оказывается столь же субстанциальным индивидом, как и прежние философы, но в форме субъективности; он не замыкается в себе, он носитель не божеского, а человеческого образа; Сократ оказывается не таинственным, а ясным и светлым, не пророком, а общительным человеком».
И все же, все же прав упрямый Аристотель, утверждая, что «каков дневной свет для летучих мышей, таково для нашего разума то, что по природе своей очевиднее всего». Столь же бескомпромиссно точна поэтическая мысль Шекспира: «Как трудно видеть то, что ясно вижу!». И значит, в светлой и прозрачной жизни и мысли Сократа был какой-то мрак, не замечаемый его поклонниками; этот-то мрак и стал началом катастрофы. «Да будет мрак!» — изрек некто и среди ясного неба раздался гром: Сократа обвинили, судили, приговорили к смерти. Далее мрак сгущается все больше: по законам полиса, у Сократа было две возможности уйти от столь тяжелого исхода.
Читать дальше