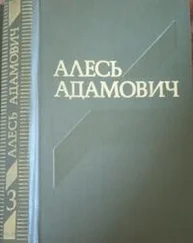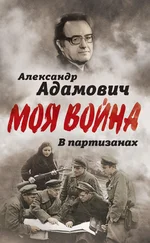12
Сходное предположение оказалось возможным сделать и по отношению к населению «протоиндийских» городов долины Инда — Мохенджо-Даро и Хараппы. «Протоиндийская» цивилизация уже несколько десятилетий занимает умы ученых, бьющихся над ее загадками. Большие города, построенные в долине Инда, существовали в III и II тысячелетии и затем внезапно пришли в упадок. В них найдено множество печатей с надписями (похожие надписи обнаружены также недавно и в Афганистане и Южной Туркмении, ирригационная культура которой оказалась связанной с протоиндийской). Мне довелось следить вблизи за работой по дешифровке этих надписей, начатой лет пятнадцать назад ленинградским этнографом Ю. В. Кнорозовым (получившим известность благодаря своим работам по письменности майя в доколумбовской Америке). Он и его сотрудники пришли к выводу, что язык этих надписей родствен дравидийским языкам, на которых говорят сейчас преимущественно на юге Индии (севернее остались только пережиточные островки дравидоязычного населения). Две другие группы, независимо от Кнорозова приступившие к дешифровке этих надписей в Финляндии и несколько позднее в США, пришли к выводам, во многом аналогичным (все три группы отмечают, что в языке этих надписей, как и в дравидийских языках, одно и то же звучание имеют слова «звезда» и «рыба»). Значит, до прихода индоевропейцев и на севере Индии (как, вероятно, и на территории Афганистана и Южной Туркмении) говорили на дравидийских языках; недаром близкий к ним эламский язык, как мы знаем по письменным памятникам, был древним письменным языком Суз на территории Ирана. Но почему древние дравидоязычные города Индии с их высокой культурой погибли еще до вторжения индоевропейских племен (как они себя называли сами в древности, «ариев») в Индию?
Неожиданный ответ на это дал американский антрополог К. Кеннеди в статье о «скелетной археологии», опубликованной в 1981 году. Его исследования обнаружили две характеристики костных остатков из «протоиндийских» городов; во-первых, судя по болезням зубов, там уже было на протяжении нескольких тысячелетий развитое сельское хозяйство, сказавшееся на особенностях пищи, и, во-вторых, характер деформации черепов и костей свидетельствует о гибели населения от порозного гиперостоза — генетического последствия малярии. Познакомившись с работой Кеннеди, я тут же (27 февраля 1982 г.) написал ему письмо, где предложил объяснить последствия малярии для «протоиндийской» цивилизации так же, как их понимала Ливингстоун, открывшая связь между земледелием, малярией и серповидно-клеточной анемией в Африке. 10 апреля 1982 г. Кеннеди в ответном письме писал мне (привожу цитату из его письма в своем переводе с английского): «Ваше предположение о том, что работа Ливингстоун о малярии и серповидно-клеточной анемии проливает свет на цивилизацию Хараппы, превосходно. Если порозный гиперостоз прямо связан с ненормальными гемоглобинами, тогда кажется возможным, что мы нашли свидетельства малярии в городах долины Инда. Если арии вторглись в эти центры, они должны были тоже страдать от малярии, но, возможно, без преимущества адаптивного полиморфизма, которое дает гетерозиготность по серповидно-клеточной анемии или талассемии. Но возможно, что арии на своей родине были уже приспособлены к этим ненормальным гемоглобинам и поэтому не более страдали от скрытой или эндемической малярии, чем жители Хараппы. Конечно, здесь есть параллель с греками до и после Александра, потому что малярия была эндемична в Эгейском мире…» В нашем совместном исследовании с академиком Т. В. Гамкрелидзе о миграциях индоевропейцев, опубликованном в 1984 году, мы использовали этот «малярийный» аргумент для уточнения путей прихода индоевропейцев в Индию. Должен сказать, что Кеннеди в этом вопросе осторожен: в более новых своих публикациях он отмечает, что порозный гиперостоз может быть связан как с малярией, так и с особенностями питания, вызывающими дефицит железа (заметим, что одновременное воздействие недоедания и малярии как факторов смертности обнаружено и в Индии, и в Африке). Грубо очерченная общая схема развития и гибели протоиндийского общества как ирригационного еще может уточняться во многих звеньях, как любая историческая реконструкция, зависящая от вновь открываемых археологических и древнеписьменных свидетельств и их антропологической интерпретации. Наличие ирригации в протоиндийских городах вероятно, но археологические следы ее при катастрофах почти полностью исчезли; раскопано лишь одно большое водохранилище, но его иногда считают остатком портовых сооружений. Есть, однако, еще несколько обстоятельств, которые, как мне представляется, говорят в пользу предложенного мной и Т. В. Гамкрелидзе объяснения. Эта реконструируемая картина согласуется с недавно (в 1983 г.) изученными индологом К. Г. Зиском данными об описании тропической лихорадки («такман») в древнеиндийских текстах «Вед», где указывается и характерная ее связь с желтым цветом больного, и упоминаются в связи с ней москиты. В сборнике ведийских заклинаний и заговорных текстов (в том числе и медицинского характера) «Атхарваведа» сохранилось несколько заклятий от лихорадки, переведенных на русский язык нашим известным индологом Т. Я. Елизаренковой. Один из этих заговоров, который я приведу в ее переводе полностью, предлагает избавиться от нее, передав болезнь лягушке:
Читать дальше
![Алесь Адамович Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке] обложка книги](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-cover.webp)
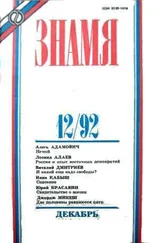
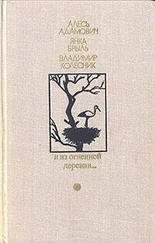


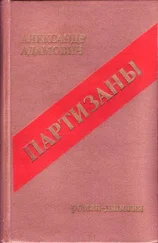
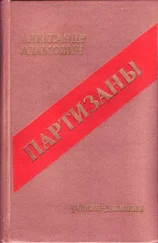

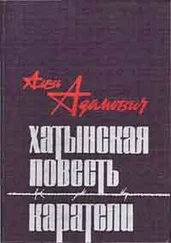
![Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/429054/yurij-rost-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazyvayut-thumb.webp)