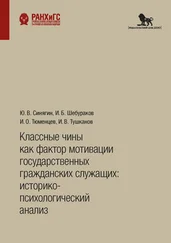Как видим, среднестатистический минчанин в своем отношении к кооперативам напоминал жителя Таллинна и был совсем не похож на москвича. Конечно, славяне (русские, украинцы, поляки) ближе к белорусам по ментальности, культуре, традициям, но с прибалтийскими народами у нас тоже есть общее культурное прошлое – Великое Княжество Литовское (вторая половина XIII–XVIII вв.). «Распространение влияния Речи Посполитой на земли восточных славян вело к специфической этнической окраске социальных и конфессиональных отношений» [61] Ческов Я. В. Лекции по исторической этнологии: учеб. пособие. – М.: Гардерика, 1998. -С. 151.
. С другой стороны, как отмечают сами белорусские социологи, массовому сознанию белорусского населения свойственна противоречивость и даже парадоксальность, которая заключается в соединении типичных ценностей и норм социализма с существенно отличными нормами и представлениями рыночного демократического общества [62] Титаренко Л. Г. «Парадоксальный белорус»: противоречия массового сознания // СонИс. – 2003. – № 12. – С. 96–107.
.
В качестве причин, по которым люди избегали обращаться к услугам кооператоров, назывались в основном высокие цены, низкое качество либо отсутствие гарантии качества. При нормальном функционировании рынка такие условия привели бы к разорению производителя. Однако этого не происходило по причине практически полного отсутствия конкуренции со стороны государственных предприятий, которые, получив определенную самостоятельность, практически сразу начали «сворачивать» производство товаров и услуг, цены на которые не гарантировали рентабельности. Эту нишу занимали кооператоры, имевшие больше возможностей поднимать цены в соответствии со спросом. В итоге у населения складывалось впечатление, что в росте цен виноваты исключительно кооператоры.
Число людей, считавших, что государство должно оказывать кооператорам поддержку, превышало число сторонников противоположного мнения в 4, а в некоторых опрошенных регионах – в 7 раз. Одна треть респондентов (33,6 %) была согласна с утверждением, что кооперативам нужно «просто не мешать работать». Это суждение сочеталось во многих ответах с утверждением, что контроль деятельности кооперативов со стороны государства должен быть только усилен. Сила контроля во времена существования СССР была настолько велика, что, являясь неотъемлемой частью жизни советского населения, он не ассоциировался с созданием помех и трудностей в жизни и работе, а представлялся эффективным механизмом поддержания общественного порядка и контролирования девиантного поведения.
Действительно, в условиях усиления народовластия, расширения хозяйственной самостоятельности предприятий и их трудовых коллективов, внедрения хозрасчета и самофинансирования, небывалого всплеска гласности работниками комитетов народного контроля отмечался правовой нигилизм населения, неуважение к законам (пусть не всегда совершенным и подлежащим уточнению) и правовым нормам, даже к Уголовному кодексу [63] Перестройка и народный контроль / сост. В. И. Мелещенко. – Л.: Лениздат. 1990.-С. 4.
. Предполагалось, что хозяйственная самостоятельность, непосредственная зависимость доходов от результатов труда, усиление чувства хозяина у каждого работника и многое другое должны были вызвать новые прогрессивные явления, в первую очередь – повышение производительности труда, качества продукции, ее конкурентоспособности, укрепление трудовой, технологической и исполнительской дисциплины и т. д. Но социальные ожидания оказались слишком оптимистичными.
В конце 1980-х гг. прогнозировалось, что с расширением числа кооперативов и возможности работы в них доля людей, удовлетворенных открывающимися с развитием кооперации перспективами, будет расти. Однако результаты опроса показали, что при всей своей заманчивости по материальному вознаграждению и по возможности для самореализации работа в кооперативе оставалась в массовом сознании малопрестижной. На вопрос «Хотели бы вы сами стать кооператором?» в большинстве регионов как раз та группа, которая наиболее благожелательно относилась к кооператорам (лица с высшим образованием) продемонстрировала наименьшую готовность пополнить ряды кооператоров. А вот группы, настроенные более резко, проявили больше желания заняться кооперативной работой. Всего же в кооперативах хотели бы работать 31,2 % опрошенных, ответили отрицательно 41,7 %. На вопрос, близкий предыдущему, – «Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали кооператорами?» – ситуация резко меняется: желающих почти втрое меньше, чем нежелающих (7 % и 20,6 % соответственно). То есть, работа в кооперативе считалась непрестижной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
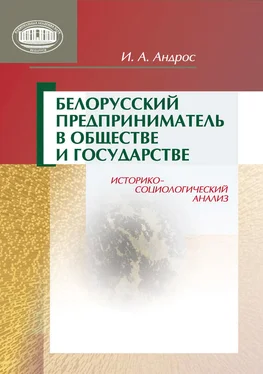

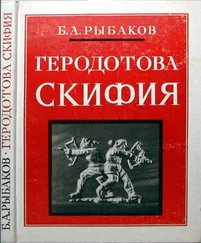
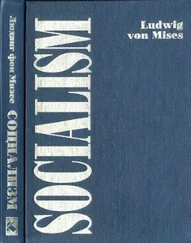
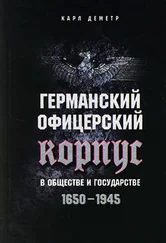

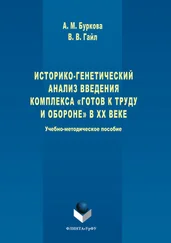
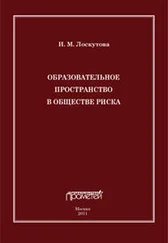
![Олег Арин - О любви, семье и государстве [Философско-социологический очерк]](/books/422193/oleg-arin-o-lyubvi-seme-i-gosudarstve-filosofsko-sociologicheskij-ocherk-thumb.webp)