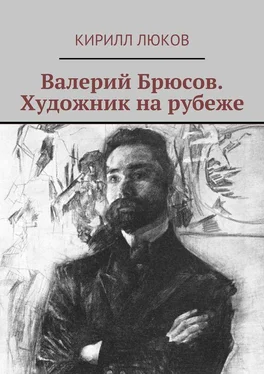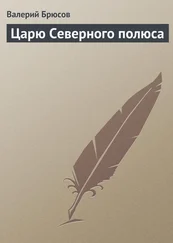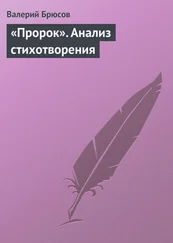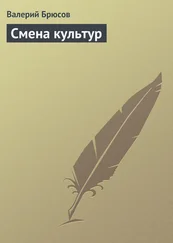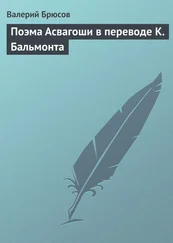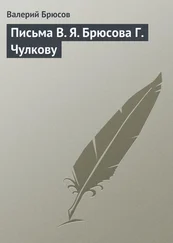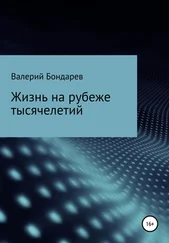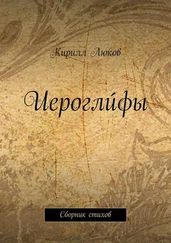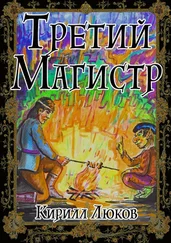Начало 90-х годов XIX века можно уверенно назвать началом русского символизма, хотя «некоторые „предвестия“ символизма были ощутимы уже в 80-х гг.» 5 5 Максимов Д. Е. «Поэзия Валерия Брюсова», Л., «Худ. лит», 1940, с. 14.
. В 1890 г. в книге Н. Минского «При свете совести» вполне отчётливо проявилась «тенденция к новому мистико-индивидуалистическому мировоззрению» 6 6 Максимов Д. Е. «Поэзия Валерия Брюсова», Л., «Худ. лит», 1940, с. 14.
, являющемуся одной из основных черт символической школы. В 1892 г. вышел сборник стихотворений Д. Мережковского «Символы», «в котором элементы новой, декадентской тематики облекались в старые, эпигонские и полуэпигонские формы» 7 7 Максимов Д. Е. «Поэзия Валерия Брюсова», Л., «Худ. лит», 1940, с. 14.
, и которым зачитывался Брюсов. В этом же году Брюсов познакомился с французским символизмом, правда «не непосредственно, а через статью З. Венгеровой „Поэты символисты во Франции“ в „Вестнике Европы“ 1892 года №9» 8 8 Черновая запись Брюсова, относящаяся к стихотворению «Из Римбо», цит. по: Ильинский А. «Литературное наследство В. Брюсова» – «Литературное наследство», т. 27—28 («Русский символизм»), М., 1937, с. 486.
. В следующем году появилась брошюра Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», где автор пытался определить существенные признаки нового литературного направления. « (…) Мережковский видел их не только в области «чистой идеологии» («мистическое содержание»), но и в плане поэтики («расширение художественной впечатлительности» – импрессионизм и «символы»). 9 9 Максимов Д. «Поэзия Валерия Брюсова», Л., «Худ. лит», 1940, с. 14.
Тогда же была напечатана статья Н. Михайловского «Русское отражение французского символизма», в которой новое поэтическое течение признавалось существующим в России. Вслед за этим вышел сборник стихов К. Бальмонта «Под северным небом» (1894 г.). Главным оплотом новой индивидуалистической эстетики стал с 1891—1892 гг. журнал «Северный вестник», во многом благодаря критику А. Волынскому, пропагандировавший новых авторов – Метерлинка, д’Аннунцио, Гамсуна.
В том же «знаменательном в истории символизма 1893 году» 10 10 Максимов Д. Е. «Поэзия Валерия Брюсова», Л., «Худ. лит», 1940, с. 14.
, 13 августа Брюсов гордо записал в своём дневнике: «Третьего дня кончил свою комедию. Вчера читал её маме и другим. Даже мне самому она очень нравится» 11 11 Брюсов В. «Дневники (1891—1910)», М., изд. Сабашниковых, 1927, с. 14.
. Речь идёт об одной из первых законченных пьес Брюсова, получившей в окончательном варианте жанровое определение «драматической шутки», – «Дачные страсти».
«Брюсов в своих первых пьесах ставил своеобразную задачу психологического „изучения“ „нового поэта“ (…) По мере расширения представлений о символистско-декадентском искусстве Брюсов делает своих героев носителями не только личностных качеств, но и теоретических тенденций (…), как бы идя от зарисовок характера „нового поэта“ к обоснованию характера „новой поэзии“» 12 12 Страшкова О. «Эволюция «нового поэта» в первых драматических произведениях Брюсова» – «Валерий Брюсов и литература кон. XIX – XX века», Ставрополь, 1979, с. 72.
.
Узнать подробнее о «характере „нового поэта“» в значительной степени позволяет биография самого молодого Валерия Брюсова.
Ещё в школьные годы на Брюсова писались эпиграммы, и одну из них он приводит в своём дневнике, снабдив коротким сухим комментарием:
«Есть ещё эпиграмма на меня:
Математик и поэт,
Но философ страстный.
Что ж, феномен он? О, нет!
Лишь хвастун ужасный» 13 13 Брюсов В. «Дневники (1891—1910)», М., изд. Сабашниковых, 1927, запись 12 апреля 1891 г., с. 3.
.
Видимо, это «хвастун ужасный» сильно задело самолюбие Брюсова, ведь он действительно равно интересовался математикой, философией, поэзией, и пожалуй, математикой даже больше поэзии. Брюсов «всегда любил непобедимую логику математики, но в те годы, между своими 16 – 18 годами, особенно увлекался ею и долгое время держался намерения (…) избрать математический факультет» 14 14 Брюсов В. «Автобиография» (1912—1913 гг.) – Брюсов В. «Голос часов», М., «Центр-100», 1997, с. 37.
.
Но в то же время и символизм, который «не хотел быть только художественной школой, литературным течением», в котором «внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель»» и»«дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково» 15 15 Ходасевич В. Ф. «Конец Ренаты» – Брюсов В. «Огненный ангел», Спб, «Северо-Запад», 1993, с. 863—864.
, был чрезвычайно близок ему. Стремление соединить жизнь и творчество влекло его к актёрству перед самим собой, как к « разыгрыванию собственной жизни» 16 16 Ходасевич В. Ф. «Конец Ренаты» – Брюсов В. «Огненный ангел», Спб, «Северо-Запад», 1993, с. 866.
, так и к «разыгрыванию» своего творчества. И здесь в ход шло всё: от откровенного эпатажа, или того, что воспринималось таковым (вроде знаменитого одностишия Брюсова «О закрой свои бледные ноги» 17 17 Брюсов В. Собр. соч. в 7 тт., М., «Худ. лит», 1973, т. 1, с. 36.
) в творчестве, до странных выходок и мистификаций в жизни. Каждый из «новых поэтов» как бы постоянно носил маску, а то и не одну, и трудно было понять, где он настоящий, а где – сам себя играющий. Зачастую, это даже не скрывалось. В 1896 г. Брюсов работает над статьёй «О молодых поэтах», которая не была издана. Он пишет о себе (статья должна была выйти под псевдонимом): «В одном романе есть женщина, которая во что бы то ни стало желает себя компрометировать. Валерий Брюсов весьма похож на эту женщину… Подождём пока он станет самим собой» 18 18 Цитируется по: Паниян Ю. М. «Ранние критические статьи Брюсова» – «Брюсовские чтения 1863 г.», Ереван, «Айастан», 1964, с. 276.
[ здесь и далее выделено мной – К. Л. ].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу