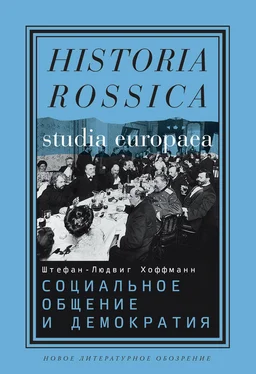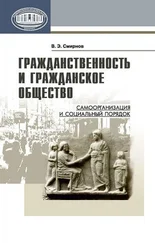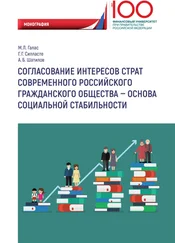Такой сравнительный взгляд на богатую картину общественности XVIII–XIX веков до сих пор отсутствовал. Вместо этого ассоциации часто служат примером для резкого различения особенностей американской демократии (а во многих отношениях и политической культуры Великобритании) и континентальных европейских обществ. Этот тезис также восходит к «Демократии в Америке» Токвиля, поскольку отсутствие ассоциаций, особенно во Франции, служило для него подтверждением недостаточной общественной самоорганизации европейских социумов. Взгляд Токвиля на американское общество был взглядом французского аристократа. Он анализировал угрозу для социального порядка Старой Европы, которую грядущая демократия в его глазах неизбежно несет с собой. Токвиль не замечал, в какой степени ассоциации начали менять социальный порядок на европейском континенте в то время, пока он писал «Демократию в Америке». Ему, представителю столичной аристократии, оставались чужды социальные круги локального буржуазного общества французской провинции, где общественные объединения пользовались большой популярностью. Поскольку весь интерес Токвиля в отношении социального порядка Старой Европы был прикован к государству, от него ускользнула важная характеристика ассоциаций: их укорененность в локальном обществе. Как показала Кэррол Харрисон, «клубы джентльменов, хоровые группы, ученые общества и прочие ассоциации – все были по преимуществу провинциальными. ‹…› В случае с общественными ассоциациями Париж был не лучшим местом для наблюдений за французским обществом» [18] Harrison C. E. Unsociable Frenchmen. Associations and Democracy in Historical Perspective // The Tocqueville Review. Vol. 17. 1996. P. 37–56, 41 et passim. Подробно: Harrison C. E. The Bourgeois Citizen in Nineteenth-Century France. Gender, Sociability, and the Uses of Emulation. Oxford, 1999.
. Часто ограничительное законодательство об ассоциациях говорит о позиции государства по отношению к общественным объединениям своих граждан, но не о действительном масштабе городского социального общения. В течение всего XIX века, констатирует Морис Агюйон, не только во Франции, но и во всей континентальной Европе друг другу противостояли общество, которое поддерживало ассоциации, и враждебное к ним государство [19] Agulhon M . Le cercle dans la France bourgeoisie 1810–1848. Etude d’une mutation de sociabilité, Paris, 1977.
. Отсюда же, по иронии судьбы, вытекает, что деятельность ассоциаций в Европе документирована несравненно лучше, чем в Соединенных Штатах или Великобритании, – в актах государственных органов, которые с подозрением следили за обществами и кружками.
Зачарованный взгляд на гипертрофированную роль государства в Европе препятствовал Токвилю (как и Гегелю с Марксом, что имело серьезные последствия для политической теории «гражданского общества») увидеть роль, которую общественные объединения играли не только для Соединенных Штатов, но и для европейских обществ его времени. Это одна из причин, почему до сих пор нет сравнительных исследований на данную тему. Другая примыкающая к ней: в национальной исследовательской литературе ассоциации изучались преимущественно в связи с процессами складывания классов, особенно образования средних классов. Уже для XVIII века, и в еще большей степени для XIX, в ассоциациях видели общественную форму социализации буржуазии. Этот тезис социальной истории, безусловно, был плодотворным; благодаря ему появились монументальные эмпирические исследовательские проекты по истории ассоциаций США и Западной Европы, а в последнее время также средних классов Центральной Европы и России, на результаты которых опирается и настоящий обзор. Но допущение тесной связи между «буржуазией», «гражданским/буржуазным обществом» и «ассоциацией» часто приводило к ошибочному обратному выводу: в тех обществах, которые не были «буржуазными» в политическом отношении и в которых отсутствовали социальный субстрат «буржуазии» и единая утопия «буржуазного/гражданского общества», не могло быть и ассоциаций. Однако если не подводить под практики гражданского общества конца XVIII–XIX века социально-политические цели, о которых оно и представления не имело, то открывается доступ к его собственному эмпирическому миру: по-прежнему живой традиции политического мышления раннего Нового времени, в котором «буржуазия» ассоциировалась с добродетелью и коллективизмом, а не указывала еще на особый социально-экономический класс со своими политическими интересами [20] Ср.: Nolte P. Bürgerideal, Gemeinde und Republik. „Klassischer Republikanismus“ im frühen deutschen Liberalismus // Historische Zeitschrift. Bd. 254. 1992. S. 609–656, 628. Аргументы исторической семантики в: Koselleck R., Schreiner K . (Hrsg.), Bürgerschaft. Rezeption und Innovation der Begrifflichkeit vom Hohen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1994; Koselleck R. u. a . Drei bürgerliche Welten? Zur vergleichenden Semantik der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland, England und Frankreich // Puhle H. – J . (Hrsg.), Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit. Göttingen, 1991. S. 14–58; Steinmetz W. Die schwierige Selbstbehauptung des deutschen Bürgertums // Wimmer R . (Hrsg.), Das 19. Jahrhundert. Berlin, 1991. S. 12–40; Wirsching A . Bürgertugend und Gemeininteresse. Zum Topos der „Mittelklassen“ in England im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert // Archiv für Kulturgeschichte. Bd. 72. 1990. S. 173–99; Wahrman D . Imagining the Middle-Class. The Political Representation of Class in Britain, c. 1780–1840. Cambridge, 1995; Maza S . The Myth of the French Bourgeoisie. An Essay of the Social Imaginary, 1750–1850. Cambridge (Mass.), 2003.
. Так в либерализме XIX века становятся видны не только следы классического республиканизма, но и транснациональность как его фундаментальная черта. Идеи и социальные практики – такие, как общественные объединения – не сводимы к одному социальному классу. Не только в восточноевропейских странах, лишенных сильного среднего класса, образованное дворянство, а также другие небуржуазные слои были причастны к тогдашней «страсти к ассоциациям» [21] Müller M. G. Die Historisierung des bürgerlichen Projekts – Europa, Osteuropa und die Kategorie der Rückständigkeit // Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. Jg. 29. 2000. S. 163–170, 167.
.
Читать дальше