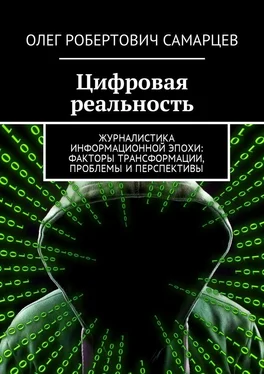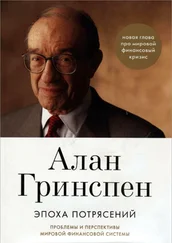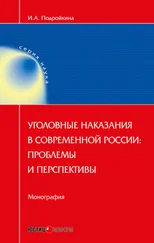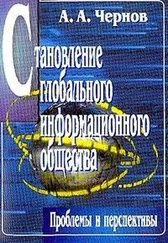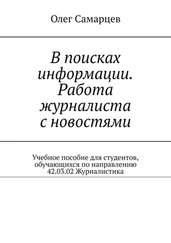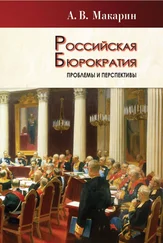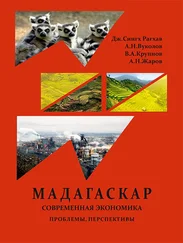«Гражданская журналистика» («сivic journalism» или «citizen journalism» ) отменяет информационную исключительность СМИ, однако качественный отбор, оценка событий и их интерпретация, проверка фактов ( fact checking ), требующие профессиональных компетенций, пока остаются прерогативой профессиональных редакций.
Существенны и социальные факторы,в том числе и ролевая инверсия участников массовой коммуникации. Социальная пирамида потребителей СМИ сегодня меняется как в сфере увеличения доступности информации (практически не претерпевая изменений в отношении ее содержания – элита по прежнему стремится к потреблению качественной информации, масса – информации облегченной и массифицированной), так и смещения акцента в инициативе создания контента.Масса становится не менее, если не более, активным автором информационного поля, а поскольку основополагающее свойство массы – расти [7], то и тенденция эта год от года усугубляется. «Освобождение авторства» [8] ( mancipation of authorship ), как полагает известный медиааналитик А. Мирошниченко, происходит экспоненциально: если за всю историю человечества до наших дней публичных авторов насчитывалось около 200 миллионов, то уже сегодня их более 2,5 миллиардов [9]. По сути дела, за последние 25 лет произошло приращение числа авторов более чем на порядок, без необходимости приобретения для этого каких-либо профессиональных компетенций.
Таким образом, журналистика, традиционно занимавшая промежуточное положение между элитой и массой, теряет монополию системы-посредника и вынуждена эту функцию реализовать в новых условиях, со значительно меньшей эффективностью. Характерно, что уже на этой стадии всплеска интереса к блогосфере – ближайшего конкурента журналистики – начинает работать селективный механизм обособления новой «медийной элиты», продвижения части акторов соцсетейк вершине информационной пирамиды, что заставляет государство принимать весьма спорные законы, уравнивающие их со СМИ, а аудиторию – менять отношение к журналистике, оказываясь «более восприимчивой и открытой блогерам, а не профессиональным журналистам» [10]. С практической точки зрения, любая форма журналистики доступна в равной степени и блогосфере, однако речь о замене одной системы на другую пока не идет [11].
По всей видимости, исключительность в информационной среде интернета журналистике вернуть не удастся, а поскольку и самой глобальной сети в нынешнем виде эксперты предрекают скорую гибель [12], то и изменения в масс-медиа будут продолжаться не одно десятилетие.
Тем не менее, журналистика как одна из базисных социальных систем общества в новых условиях вынужденно адаптируется в направлении расширения профессиональных компетенций и попыток репутационного отрыва от волюнтаризма социальных сетей. Учитывая, что модернизация собственных социальных функций от журналистики не зависит, поскольку определяется исключительно потребностями социума, то ближайшие трансформации следует ожидать внутри самой системы «журналистики 2.0» – в технологиях, принципах и формах реализации общественных ожиданий.
Возникновение « нового журнализма» Д. Пулитцера и Р. Херста довольно точно совпало по времени с индустриальной революцией начала ХХ века. Индустриализация вывела широкую массу из информационной периферии, чтобы сделать ее главной движущей силой эпохи и основным потребителем газет и журналов и, как следствие, безусловным диктатором информационной повестки дня. Странно ли, что не только форма, но и содержание прессы, дотоле стремившейся к диалогу, убеждению и просвещению, естественным образом претерпели системные изменения, которые Рендольф Херст довольно откровенно постулировал в несложных правилах. Читатель, утверждал он, интересуется, прежде всего, событиями, «которые содержат элементы его собственной примитивной природы – самосохранение, любовь и размножение, тщеславие». «Новый журнализм», привлекательный в силу простоты и декодируемости для любой аудитории, изменил и критерии оценки качества журналистики. Непреложным правилом новых изданий стала формула: один элемент из списка Р. Херста делает текст хорошим, два – еще лучше, а наличие всех трех обеспечивает первоклассный информационный материал. Форма и содержание журналистского текста стали приспосабливаться к новой структуре информационного потребления. Начался процесс таблоидизации, узаконивший стандарт перевернутой пирамидыи обособленность броского заголовка (headlin), иллюстративность и уменьшенный формат полосы. Как следствие, унификация и клиппирование текстов стали естественным трендом с учетом упростившихся потребностей аудитории.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу