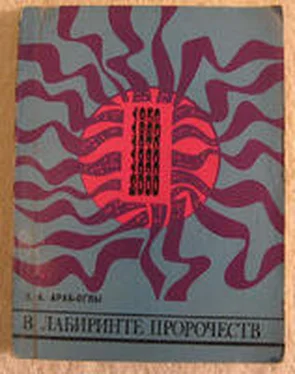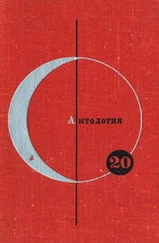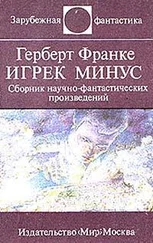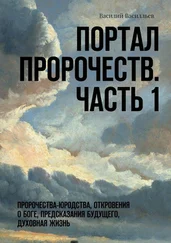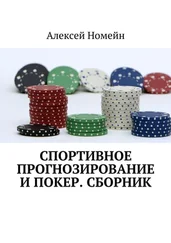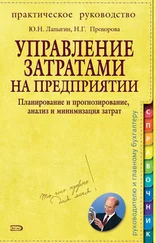Перед лицом социального протеста
Итак, движение социального протеста молодежи, особенно студенчества, в Соединенных Штатах доставило за истекшее десятилетие много забот не только родителям и властям — от администрации университетов до федерального правительства, — но и американским социологам, тем более что именно студенты департаментов социальных и гуманитарных наук с самого начала играли в нем ведущую роль.
Кто, как не социологи, по мнению общественности, были призваны в первую очередь научно (или хоть сколько-нибудь правдоподобно) объяснить как причины, так и характер этого движения, кстати, заставшего врасплох их самих, предсказать его дальнейший ход, а также определить свое моральное и политическое отношение к нему. В обоих случаях драматическое развитие событий требовало от них быстрого ответа и решения, а острота положения предполагала его недвусмысленность. В то время как официальная Америка и консервативно настроенная часть родителей с едва сдерживаемым гневом восклицали: «Чему же вы учите нашу молодежь?» — нетерпеливая студенческая аудитория настойчиво вопрошала их: «С кем же вы теперь, наши профессора?»
Социальный протест молодежи тем самым оказался весьма серьезным испытанием как теоретической зрелости, так и политических убеждений американских социологов. И теперь мало кто среди них решается утверждать, что они его достойно выдержали. Надо сказать прежде всего, что для подавляющего большинства социологов массовый социальный протест молодежи, начавшийся в середине 60-х годов в США и распространившийся, подобно лесному пожару, в другие страны, явился полнейшей неожиданностью. Ведь сравнительно недавно, буквально накануне так называемых «студенческих беспорядков» в Калифорнийском университете (Беркли), положивших начало этому движению, либерально настроенные профессора, отважившиеся противостоять волне маккартизма в 50-е годы, снисходительно отзывались о студенческой молодежи как о «молчаливом поколении» и даже сетовали на то, что она, мол, всецело поглощена заботами о приобретении профессиональных знаний и последующим устройством на хорошее место в жизни.
Подобные представления, казалось, прекрасно вписывались в модную среди социологов теорию «деидеологизации» и постепенного увядания социальных конфликтов на Западе. И лишь немногие из них, вроде Райта Миллса, смогли предвосхитить близкий конец «конца идеологии» и возрождение радикальных настроений среди студенческой молодежи. Незадолго до смерти он обратился к ней со своим ставшим знаменитым «Письмом к „новым левым“», в котором не только разоблачил концепцию «деидеологизации», но и сформулировал многие программные положения леворадикального движения на Западе. Это письмо Миллса, к сожалению, стало и его завещанием. И кто знает, скольких политических ошибок и идейных заблуждений удалось бы избежать «новым левым», если бы он остался в живых, а студенческое движение в США не подпало бы под идейное влияние его сомнительных душеприказчиков и псевдомарксистских теоретиков вроде Маркузе.
Итак, в своем подавляющем большинстве американские социологи оказались явно неудачливыми пророками в отношении молодежи, как, впрочем, и в целом ряде других вопросов. По авторитетному свидетельству видного социального психолога Кеннета Кенистона, никто из социологов в США не мог в период с 1950 по 1960 год предвидеть массовое движение протеста молодежи просто потому, что, как они считали, распространение высшего образования и связанные с этим перспективы «вертикальной социальной мобильности» устранят основные причины для недовольства. Любопытно, что знаменитый американский футуролог Герман Кан, откровенно бахвалящийся своими пророческими способностями, даже в 1967 году все еще снисходительно третировал студенческое движение протеста, зародившееся на его глазах в Калифорнийском университете, как «реакцию избалованных детишек». В его многочисленных сценариях, которыми заполнена книга «Год 2000-й», это движение не нашло никакого места. И в этой связи французский социолог Люсьен Жирарден справедливо замечает: «Книга была опубликована в 1967 году. Четыре года спустя, принимая во внимание продолжающиеся неурядицы из-за Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, можно сделать вывод, что речь идет вовсе не о „детских капризах“, а о глубинном, серьезном процессе. Не предусмотреть такую возможность, ставшую ныне реальностью, означает, что созданная автором панорама 2000 года может завести нас в тупик значительно раньше намеченных им рубежей». [113] См.: «Le Nouveau Planète», mai—Juin 1971, p. 8.
Читать дальше