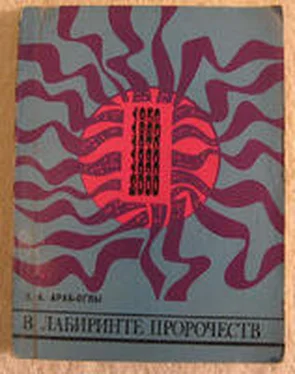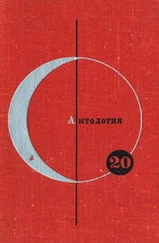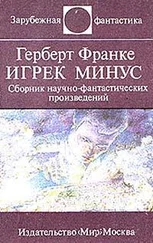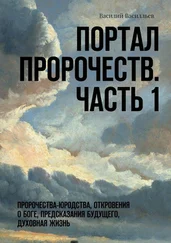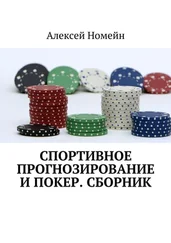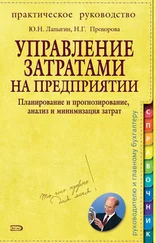Резкое обострение противоречий и конфликтов в капиталистических странах на исходе 60-х годов сопровождалось, как и предсказывали марксисты, усилением политической и идеологической борьбы. Социальный кризис, в который оказалась ввергнута капиталистическая система, возвестил не о «закате идеологической эры», но о конце «конца идеологии» как сколько-нибудь правдоподобной социологической концепции. Теперь об этом пишут не только противники этой концепции; даже наиболее дальновидные ее представители предпочитают ныне отмежевываться от нее. Поучительно в этом смысле недавнее признание Дэниела Белла в одной из его статей, посвященных социальному кризису американского общества: «…целый ряд социологов, в том числе Реймон Арон, Эдвард Шилс, С. М. Липсет и я сам пришли к выводу, что для 50-х годов характерной чертой был „конец идеологии“. Под этим мы подразумевали, что прежние политические идеи и радикальные движения истощили себя и не обладают способностью возбуждать страсти или приверженность к себе среди интеллигенции». Белл не довольствуется тем, что задним числом «исправляет» смысл данной концепции, ограничивая ее применимость лишь одним десятилетием в прошлом США, тогда как в действительности она претендовала объяснить будущее «индустриального общества» в целом. Оправдывая неспособность американских социологов предвидеть социальный кризис 60-х годов, Белл сетует на то, что хотя его глубокие корни лежали в прошлом, но «многое… было затемнено в 50-х годах», торжествующий консерватизм которых следует рассматривать как своего рода «историческую аномалию», лишь временно прервавшую вековое необратимое наступление радикализма.
И, наконец, свои рассуждения он завершает красноречивым примечанием: «Я намерен подчеркнуть, что содержание концепции „конца идеологии“ отнюдь не предполагает, что все социальные конфликты завершились и что отныне интеллигенция навсегда отреклась от поисков новой идеологии». [9] «The Public Interest», № 21, Fall, 1970, p. 24.
В настоящее время на Западе призывы к возрождению идеологии и идеологической борьбы исходят не только от радикально настроенных деятелей, но и от многих либералов и консерваторов. Само понятие «идеология», еще недавно употреблявшееся в правительственных и деловых кругах, а также в академическом мире в пренебрежительном смысле, неожиданно обрело респектабельность. Об идеологическом обновлении американского общества печется ныне даже такой орган государственно-монополистического капитала, как журнал «Форчун», который прямо ведет речь о возрастании идеологии в деятельности корпораций. «Больше анализа, больше планирования, более широкий взгляд на вещи и лучшая идеология — вот что необходимо для успеха», — настойчиво поучает он бизнесменов. [10] «Fortune», October, 1970, p. 150.
Именно в такой социальной обстановке на смену «концу идеологии» пришла «футурология», призванная в какой-то мере реабилитировать американских социологов в глазах общественного мнения. В этой связи весьма поучительны размышления Кришана Кумара о возникновении футурологии, опубликованные в английском еженедельнике «Лиснер»: «В 50-х годах некоторые видные американские интеллектуалы провозгласили так называемый „конец идеологии“ на Западе… Эта оценка ими положения дел в наших индустриальных обществах сейчас, разумеется, воспринимается как небылица: назидательная сказка близоруких провидцев, явная идеология и поразительное самодовольство». Однако, продолжает Кумар, поборники этой концепции тоже извлекли урок из своего плачевного опыта:
«В течение этого десятилетия утраченных иллюзий теоретики „конца идеологии“ сохраняли подозрительное молчание насчет насущных проблем. Быть может, перед лицом такого тотального краха их предвосхищений у них и не было никакого иного выхода. Теперь, однако, мы можем убедиться, что на протяжении этого периода они были весьма деятельны. Столкнувшись с очевидным распадом системы, которую прежде считали „здоровым обществом“, они были заняты тем, чтобы разработать новое предвосхищение и новую идеологию. Поскольку идеологические доктрины сами себя таковыми не рассматривают и приобретают особое наименование лишь после того, как обстоятельства, вызвавшие их появление, канут в прошлое, то эта новая идеология пока что не имеет общепринятого обозначения. Мы наблюдаем ее в процессе становления. Но ее отличительная черта состоит в том, что она черпает свои перспективы не из прошлого, а из будущего. Ее научная сфера — исследование будущего, „футурология“. А ее социальной опорой являются футурологические исследовательские институты, поддерживаемые правительствами, промышленностью и частными фондами, и заправляют ими многие лица из прежней клики 50-х годов». [11] «The Listener», 18 February, 1971, pp. 204–205.
Читать дальше