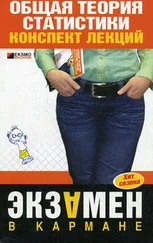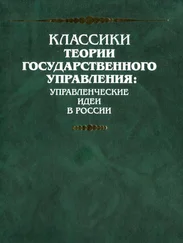Россия позже других государств вступила на путь широкого промышленного развития; промышленно-земледельческой страной, в настоящем значении этого слова, она постепенно становится только теперь. Причина этого замедления кроется в бедности России капиталами.
Недостаток капиталов в России свидетельствуется совершенно отчетливо всеми данными. Наша государственная, городская, земельная задолженность и денежные капиталы, привлеченные в промышленное и торговое акционерное дело, другими словами, общий итог русских движимых ценностей исчисляется на 1 января 1899 года в 11 с лишком миллиардов рублей, из коих около половины находятся за границей. Итог движимых ценностей, обращающихся в Германии, превышает 30 млрд, в Великобритании — 60 млрд, во Франции — 30 млрд рублей, причем значительная часть этих бумаг, принадлежащих немцам, англичанам и французам, представляет собой капиталы, помещенные в колониях и заграничных странах. Имея в виду, что каждое из этих государств, без колоний, по пространству равняется лишь незначительной части русской территории с числом жителей, во многом уступающим 130-миллионному населению
России, нельзя не признать, что в сравнении с этими итогами итог в 5 миллиардов рублей действительно русских помещений в движимые ценности — величина для России относительно ничтожная. Если же принять в расчет помещения только в акционерное торговое и промышленное дело, считая в том числе и частные железнодорожные предприятия, то получится цифра в 2 миллиарда рублей, из которых едва ли и половина русского происхождения, что составляет не более 8 рублей на душу населения. В Великобритании итог основных акционерных капиталов исчисляется в 13 млрд рублей или более 300 рублей на душу, в Германии — в 4 млрд рублей или около 90 рублей на душу населения.
Постоянные капиталы (машины, орудия производства) в равной мере у нас ничтожны. Так, несмотря на значительное за последние годы строительство, Россия имеет железных дорог только 4 километра на 10 000 жителей, тогда как Великобритания имеет на ту же единицу населения 9, Германия — 9,5, Франция — 10 и Соединенные Штаты — 40 километров. Если затем обратиться к производству в России железа, то оказывается, что, несмотря на небывалый за последнее 15-летие рост у нас добычи чугуна, мы все-таки в этом отношении сильно отстаем от всех промышленных стран. У нас на душу населения производится чугуна за последнее время немного более 1 пуда, тогда как в Англии производство чугуна на душу населения достигает свыше 13, в Соединенных Штатах — почти 10, в Германии — более 8 пудов. Еще менее благоприятное отношение получается для добычи каменного угля — этого нерва промышленности.
При недостатке капиталов и при слабом развитии промышленности нет ничего удивительного, что в нашем земледелии все еще господствует хищническая экстенсивная система, что за отсутствием широкого поля для приложения народного труда всякий даже местный неурожай, как и встарь, обращается в народное бедствие, в голодовку (чего промышленные страны уже не знают) и что отражать последствия всякого неурожая нам приходится почти даровым кормлением продовольственным хлебом. Истинно государственная точка зрения требует прекращения этого явления, для чего необходимо расширить сферу приложения народного труда.
Причины нашей бедности капиталами исторические. Русское царство развивалось и крепло в непрестанной борьбе. Покончив с восточными и южными кочевниками и пришельцами, Россия должна была отражать наседающих с запада соседей — своих учителей, с завистью и беспокойством следивших за ее необыкновенным политическим ростом. Строительство страны поглощало все усилия, сюда неслись все жертвы народа — было не до экономического устройства. И во внутренней жизни Россия вплоть до шестидесятых годов переживала крепостное право, существенно тормозившее такую постановку труда, которая является необходимым условием современного строя народного хозяйства. Отсутствие свободы труда в корне уничтожало возможность качественного повышения его, а следовательно, сколько-нибудь широкой разработки естественных богатств страны.
Если принять во внимание эти условия, то становится совершенно ясным, как ограничен тот промежуток времени, когда подъем нашего народного хозяйства мог сказаться сколько-нибудь рельефно, когда переход к новой форме хозяйства — промышленно-земледельческой — мог в действительности серьезно начаться. И нельзя не изумиться, как много в этот короткий сравнительно период сделано и как велики созидательные силы русского народа.
Читать дальше