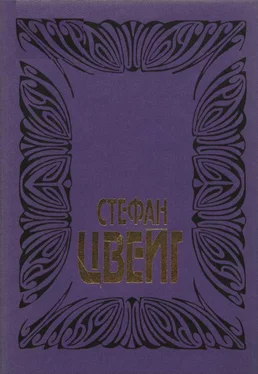Все это неизвестно. Над образом Робеспьера еще теперь, по прошествии стольких лет, витает тень таинственности; никогда история не разгадает до конца этого непроницаемого мужа. Никогда не узнают его последних мыслей: жаждал ли он диктатуры для себя или республики для всех, хотел ли он спасти революцию или стать ее наследником, как Наполеон. Никто не узнал его затаенных мыслей, мыслей его последней ночи — с 8 на 9 термидора.
Ибо это его последняя ночь: в эту ночь назревает решение. В лунном свете душной июльской ночи призрачно отсвечивает гильотина. Чье тело затрепещет завтра под ее холодным лезвием: триумвирата Тальен — Баррас — Фуше или Робеспьера? Никто из шестисот депутатов не ложится в эту ночь, обе партии готовятся к решительной битве. Робеспьер из Конвента бросился к якобинцам; при мерцающем свете восковых свечей, в трепетном волнении он читает им свою отвергнутую Конвентом речь. Еще раз — в последний раз — радуют его бурные рукоплескания, но, полный горьких предчувствий, он не поддается обману, несмотря на то, что три тысячи человек шумно толпятся вокруг него, называя эту речь своим завещанием. Тем временем его хранитель печати Сен-Жюст до зари отчаянно борется с Колио, Карно и другими заговорщиками в Комитете, а в кулуарах Конвента плетется сеть, которая завтра опутает Робеспьера. Дважды, трижды, словно шпулькой в веретене, протягиваются нити справа налево, от партии «горы» к прежней реакционной партии, пока не сплетаются, наконец, в прочный, неразрывный союз. Здесь снова внезапно выплывает Фуше, ибо ночь — его стихия, интрига — его настоящая сфера. Его свинцовое, от страха ставшее белым, как известь, лицо призрачно выделяется в полусвете зал. Он нашептывает, льстит, обещает, он пугает, страшит, грозит одному за другим и не успокаивается, пока союз не заключен. В два часа утра все противники, наконец, сошлись на том, чтобы общими усилиями покончить с Робеспьером. Теперь Фуше может, наконец, отдохнуть.
На заседании 9 термидора Жозеф Фуше тоже не присутствует, но он может отдыхать, ибо дело его сделано, сеть сплетена, и большинство решило не позволить ускользнуть от смерти слишком сильному и опасному противнику. Едва начинает Сен-Жюст, оруженосец Робеспьера, заранее приготовленную смертоносную речь против заговорщиков, как Тальен прерывает его, ибо они сговорились накануне не давать слова ни одному из могучих ораторов, ни Сен-Жюсту, ни
Робеспьеру. Оба должны быть задушены, прежде чем возведут обвинения, и вот, при ловкой поддержке услужливого президента, поднимается на трибуну один оратор за другим, и, когда Робеспьер собирается защищаться, они кричат, орут, стучат, заглушая его голос, — подавленная трусость шестисот нетвердых душ, ненависть и зависть, копившиеся неделями и месяцами, направлены теперь на человека, перед которым каждый из них трепетал. В шесть часов вечера все решено, Робеспьер в опале и отправлен в тюрьму; напрасно его друзья, искренние революционеры, уважающие в нем суровую и страстную душу республики, освобождают его и спасают в ратуше; ночью отряды Конвента штурмуют эту крепость революции, и в два часа утра, через двадцать четыре часа после того, как Фуше и его приверженцы подписали соглашение о его гибели, Максимилиан Робеспьер, враг Фуше, вчера еще могущественнейший муж Франции, лежит окровавленный, с раздробленной челюстью, поперек двух кресел в вестибюле Конвента. Крупная дичь затравлена, Фуше спасен. На следующий день после обеда колесница с грохотом катит к месту казни. Террор пришел к концу, но угас и пламенный дух революции, прошла ее героическая эра. Настает час наследников — авантюристов и любителей наживы, двурушников, спекулянтов, генералов и капиталистов — час нового сословия. Теперь, надо полагать, настанет и час Жозефа Фуше.
Пока колесница везет Максимилиана Робеспьера и его приверженцев по улице Сент-Оноре, по трагической дороге Людовика XVI, Дантона, Демулена и шести тысяч других жертв, собирается ликующая, воодушевленная толпа любопытных. Еще раз казнь стала народным празднеством; флаги развеваются на крышах, радостные приветствия посылаются из окон, волна веселья заливает Париж. Когда падает в корзину голова Робеспьера, гигантская площадь сотрясается от дружного, восторженного ликования. Заговорщики изумлены: почему народ так страстно ликует по поводу казни человека, которому Париж, Франция еще вчера поклонялись, как
Богу? Изумление Тальена и Барраса растет, когда у входа в Конвент бурная толпа народа встречает их восторженными возгласами, как убийц тиранов, как борцов против террора. Они изумлены. Уничтожая этого замечательного человека, они стремились лишь освободиться от неудобного моралиста, слишком зорко следившего за ними, но дать заржаветь гильотине, покончить с террором они не собирались. Видя, однако, что народ теперь не расположен к массовым казням и что они могут снискать себе популярность, украсив месть гуманными мотивами, они быстро решают использовать это недоразумение. Они намерены утверждать, что все насилия революции лежат на совести Робеспьера (ибо он не будет возражать из могилы), что они всегда восставали против суровости и преувеличений, всегда были апостолами милости.
Читать дальше