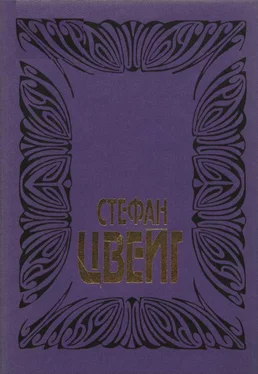Все заговорщики, все, стоящие под угрозой, боязливо вглядываются в лица своих коллег: выдал ли кто-нибудь опасную тайну и кто именно мог это сделать? Предупредит ли их Робеспьер, или они раздавят его раньше, чем он заговорит? Обречет их или защитит «болото», — это неустойчивое, трусливое большинство? Каждый колеблется и трепещет. И беспокойство, как духота свинцового неба над городом, зловещей тяжестью ложится на собрание.
И действительно: едва открылось заседание, Робеспьер просит слова. Торжественно, как в день прославления верховного существа, облачился он в исторический небесно-голубой костюм и белые шелковые чулки; медленно, с нарочитой торжественностью, он поднимается на трибуну. На этот раз, однако, он держит в руках не факел, а сжимает — словно ликтор рукоятку топора — объемистый сверток: свою речь. Найти в этих свернутых листках свое имя — означает гибель для каждого; поэтому мгновенно прекращается болтовня и шепот на скамьях. Из сада и кулуаров торопятся депутаты занять свои места. Каждый со страхом вглядывается в слишком хорошо знакомое худое лицо. Но ледяной, замкнутый, непроницаемый для любопытных взглядов Робеспьер медленно развертывает свою речь. Прежде чем опустить на бумагу свои близорукие глаза, он, чтобы усилить напряжение, оглядывает словно загипнотизированное собрание справа налево и слева направо, снизу доверху и сверху донизу, медленно, холодно и грозно. Вот они сидят, — его немногочисленные друзья, целый ряд колеблющихся и трусливая свора заговорщиков, ожидающая своей гибели. Он смотрит им в глаза! Только одного он не видит. Единственный человек отсутствует в этот решающий час: Жозеф Фуше.
Но удивительно: только имя отсутствующего, только имя Жозефа Фуше упоминается в прениях. И как раз в связи с его именем разгорается последняя решительная битва.
Робеспьер говорит долго, растянуто и утомительно: по старой привычке он размахивает ножом гильотины, не называя имен, упоминает о заговорах и конспирациях, о недостойных и преступниках, о предателях и кознях, но имен он не называет. Он удовлетворяется тем, что гипнотизирует собрание: смертельный удар должен на следующий день нанести Сен-Жюст. На три часа он растягивает свою неопределенную, местами пустословную речь, и когда он ее заканчивает, собрание скорее утомлено, чем испугано.
Сначала никто не шевелится. Недоумение овладевает всеми. Непонятно — означает ли это молчание поражение или победу: только прения могут решить вопрос.
Наконец один из приверженцев Робеспьера требует, чтобы Конвент постановил отпечатать его речь и тем самым одобрил ее. Никто не возражает. Большинство соглашается — трусливо, рабски, словно облегченно вздыхая, что сегодня не потребуют от него большего, не потребуют новых жизней, новых арестов, новых самоограничений. Но вот, в последнюю минуту, встает один из заговорщиков (его имя достойно упоминания — Бурдон де л’Уаз) и возражает против печатания речи. И этот единственный голос развязывает языки другим. Трусость постепенно нарастает и сгущается в мужество отчаяния; один за другим обвиняют депутаты Робеспьера в недостаточно ясной формулировке своих обвинений и угроз, — пусть, наконец, выскажется ясно, кого он обвиняет. За четверть часа сцена преобразилась. Обвинитель Робеспьер должен защищаться, он ослабляет впечатление от своей речи вместо того, чтобы усилить его; он поясняет, что никого не обвинял, никого не обличал.
В этот момент вдруг раздается голос, голос одного маленького, незначительного депутата: «Et Fuch6?» — «А Фуше?» Имя произнесено, имя человека, которого Робеспьер уже клеймил однажды как руководителя заговора, предателя революции. Теперь Робеспьер мог бы, должен был бы нанести удар. Но странно, непостижимо странно, — Робеспьер уклоняется: «Я теперь не хочу им заниматься, я подчиняюсь лишь голосу своего долга».
Этот уклончивый ответ Робеспьера — одна из тайн, унесенных им с собой в могилу. Почему он щадит своего злейшего врага, сознавая, что речь идет о жизни и смерти? Почему он не поражает его, почему не нападает на отсутствующего, на единственного отсутствующего? Почему не дает облегченно вздохнуть другим, напуганным, которые, без сомнения, охотно пожертвовали бы Фуше ради собственного спасения? В тот же вечер — так утверждает Сен-Жюст — Фуше еще раз пытался приблизиться к Робеспьеру. Хитрость это или правда? Некоторые очевидцы утверждают, что видели его в эти дни на скамейке в обществе Шарлотты Робеспьер, его бывшей невесты: действительно ли пытался он побудить стареющую девушку замолвить слово за него? Действительно ли, отчаявшись, он для спасения собственной жизни хотел предать заговорщиков? Или он хотел обезвредить Робеспьера и прикрыть заговор видом раскаяния и покорности? Играл ли он, великий сеятель раздоров, и на этот раз, как в тысяче других случаев, краплеными картами? Был ли неподкупный, на этот раз сам стоявший под угрозой, Робеспьер в тот час склонен пощадить самого ненавистного врага ради сохранения своего превосходства? Была ли эта уклончивость в обвинении Фуше признаком тайного соглашения или только уверткой?
Читать дальше