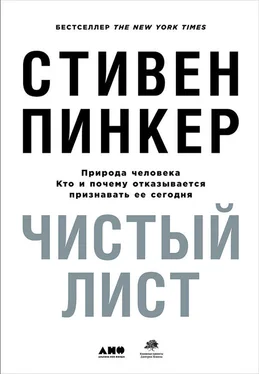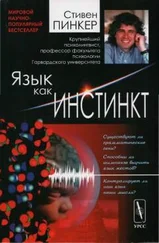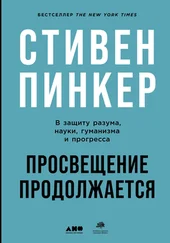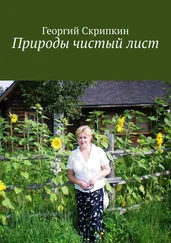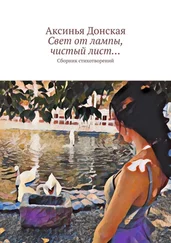Первые два четверостишия стихотворения Эмили Дикинсон «Мозг шире неба» показывают грандиозность разума как проявления работы мозга [2] Dickinson, 1976.
. И здесь, и в других своих стихах Дикинсон упоминает «мозг», а не «душу» и даже не «разум», как будто чтобы напомнить читателям, что место, где гнездятся наши мысли и впечатления, — это кусок материи. Да, в каком-то смысле наука «низводит» нас до психологических процессов не очень привлекательного органа весом в три фунта. Но какого органа! В своей завораживающей сложности, бурных комбинаторных вычислениях и бесконечной способности воображать реальные и гипотетические миры мозг действительно шире, чем небесный свод. Само стихотворение доказывает это. Просто чтобы понять сравнения в каждой строфе, мозг читателя должен вместить небо и впитать море и соотнести их с мозгом.
Загадочная последняя строфа, с ее потрясающим образом Бога и мозга, которые взвешивают, словно капусту, озадачивал читателей с момента опубликования стихотворения. Одни понимают ее как креационизм (Бог создал мозг), другие — как атеизм (мозг выдумал Бога). То же самое и с фонологией: звук — это плавный континуум, а слог — выделенная в нем единица, что предполагает своего рода пантеизм: Бог везде и нигде, и в мозге каждого воплощается конечная мера Божественности. Лазейка «а если есть сомненье» предполагает и мистицизм — мозг и Бог могут каким-то образом оказаться одним и тем же, — и, конечно, агностицизм. Амбивалентность совершенно точно умышленная, и я сомневаюсь, что кому-нибудь удастся доказать, что верна только какая-то одна интерпретация.
Мне нравится читать эти строки как предположение, что мозг, обдумывая свое место во Вселенной, в какой-то момент достигает собственных пределов и натыкается на загадки, которые, как кажется, принадлежат другому, Божественному миру. Так, свобода воли и субъективный опыт чужды нашей концепции причинности и кажутся Божественной искрой в нас. Мораль и смысл ощущаются как принадлежащие к реальности, существующей независимо от наших суждений. Но эта отдельность может быть иллюзией, созданной мозгом, и тогда мы не можем не думать, что они существуют отдельно от нас. У нас нет способа узнать это наверняка, потому что мы и есть наш мозг, и не можем выйти за его пределы, чтобы проверить это предположение. Но если мы даже и в ловушке, на такую ловушку грех жаловаться, потому что она шире, чем небо, глубже, чем море, и, возможно, так же весома, как Господь Бог.
* * *
Рассказ Курта Воннегута «Гаррисон Бержерон» настолько же прозрачен, насколько загадочно стихотворение Дикинсон. Вот как он начинается:
Был год 2081-й, и в мире наконец воцарилось абсолютное равенство. Люди стали равны не только перед Богом и законом, но и во всех остальных возможных смыслах. Никто не был умнее остальных, никто не был красивее, сильнее или быстрее прочих. Такое равенство стало возможным благодаря 211, 212 и 213-й поправкам к Конституции, а также неусыпной бдительности агентов Генерального уравнителя США [3] Vonnegut, 1968/1998.
.
Генеральный уравнитель добивается равенства, компенсируя любые врожденные (следовательно, незаслуженные) достоинства. Умные люди должны носить в ухе радиоприемник, настроенный на правительственный передатчик, который каждые 20 секунд транслирует резкий шум (например, звук, который издает разбитая молотком молочная бутылка), что мешает им пользоваться незаслуженными преимуществами их мозга. Балерины увешаны мешочками со свинцовой дробью, а их лица закрыты масками, чтобы никто не почувствовал неудобства, увидев кого-то симпатичнее или грациознее себя. Дикторов телевидения отбирают по дефектам речи. Герой рассказа — всесторонне одаренный подросток, которого заставляют носить наушники, тяжелые очки, 300 фунтов железного лома и черные наклейки на зубах. Рассказ повествует о его неудавшемся бунте.
Хотя и довольно прямолинейно, но остроумно, «Гаррисон Бержерон» доводит до абсурда весьма популярное заблуждение. Идеал политического равенства — не гарантия, что люди по природе своей не отличаются друг от друга. Это установка относится к людям в определенных сферах (правосудие, образование, политика) с учетом их личных заслуг, а не среднегрупповых значений. Это принцип, требующий признания неотъемлемых прав за всеми без исключения просто потому, что это чувствующие человеческие существа. Тем, кто настаивает, что люди должны добиваться идентичных результатов, придется заставить расплачиваться за это самих людей, которые, как все живые существа, не поровну одарены природой. Талант по определению редкость, и полностью реализовать его можно только при редком стечении обстоятельств, поэтому легче силком всех уравнять, обрубив верхушку (и лишая всех плодов человеческих талантов), чем подтягивать отстающих. У Воннегута в Америке 2081 года стремление уравнять достижения разыграно как фарс, но в XX веке оно часто приводило к реальным преступлениям против человечества, и в нашем обществе даже сама эта тема часто табуирована.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу