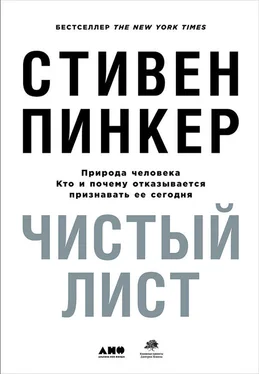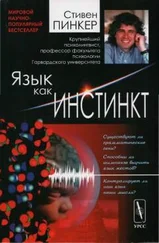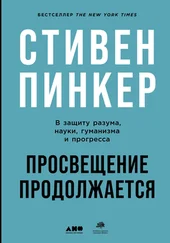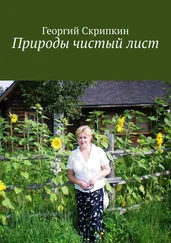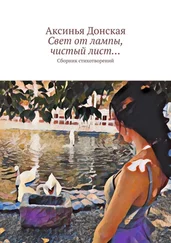Искусство эксплуатирует еще одно психологическое свойство человека — жажду статуса. Один из универсальных признаков искусства в списке Даттона — неутилитарность, непрактичность. Но как ни странно, бесполезные вещи могут быть очень полезны для конкретной цели: оценки состоятельности владельца. Впервые на это обратил внимание Торстейн Веблен в своей теории социального статуса [37] Frank, 1999; Veblen, 1899/1994.
. Мы не можем заглянуть в лицевой счет или в мобильный банк соседа, но есть хороший способ оценить его состоятельность — посмотреть, может ли он позволить себе тратить деньги на роскошь и досуг. Веблен писал, что психологию вкуса приводят в действие три «денежных канона»: расточительное потребление, расточительный досуг и расточительные траты. Они объясняют, почему символы статуса — это, как правило, изделия из редких материалов с применением сложных специальных умений или другие знаки того, что человек не должен зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом, например изящная (а значит, непрактичная) или стесняющая движения одежда, дорогие и требующие времени хобби. По чудесному совпадению биолог Амоц Захави использовал тот же принцип для объяснения эволюции экстравагантных украшений животных, таких как хвост павлина [38] Zahavi & Zahavi, 1997.
. Только очень здоровые павлины могут позволить себе превращать питательные вещества в дорогой и обременительный плюмаж. Павы сравнивают самцов по красоте хвостов, и эволюция выбирает обладателей самых лучших.
Хотя большинство ценителей с этим тезисом не согласны, но искусство, особенно элитарное, — это хрестоматийный пример расточительного потребления. Даже по определению у искусства нет никакой практической функции, и, как отмечает Даттон, искусство обязательно подразумевает мастерство (знак качества генов, свободное время для оттачивания навыков или и то и другое) и критику (оценивающую произведение и творца). В истории Европы изящные искусства и роскошь всегда шли рука об руку — вспомните пышное убранство оперных и театральных залов, богато украшенные рамы картин, торжественные костюмы музыкантов, обложки и переплеты старинных книг. Искусство и художники находились под покровительством аристократов или нуворишей, желающих немедленно обрести респектабельность. Да и сегодня картины, скульптуры и рукописи продаются по непомерным ценам (например, в 1990 году за картину Ван Гога «Портрет доктора Гаше» уплачено $82,5 млн).
В книге «Брачующийся разум» (The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped Human Nature) психолог Джеффри Миллер доказывает, что стремление к творчеству — это репродуктивная тактика: способ впечатлить предполагаемых сексуальных и брачных партнеров качеством своего мозга и, следовательно, генов. Художественное мастерство, замечает он, не всем достается поровну, неврологически затратно, его трудно подделать, и оно щедро вознаграждается. Другими словами, художники сексуально привлекательны. Природа даже предлагает нам прецедент — шалашника, птичку, которая водится в Австралии и Новой Гвинее. Самцы строят хитроумные сооружения вроде беседки или шалаша и изощренно украшают их яркими элементами: орхидеями, раковинами улиток, ягодами и корой деревьев. Некоторые буквально красят свои шалаши полупереваренными остатками фруктов, используя в качестве кисти листья или кору. Самки оценивают постройки и спариваются с создателями наиболее симметричных и красиво украшенных. Миллер доказывает, что аналогия точна:
Если бы мы сумели взять у самца атласного шалашника интервью для журнала Artforum, он мог бы сказать что-то вроде: «Я нахожу совершенно необъяснимым это непреодолимое влечение к самовыражению, к игре с цветом и формой ради них самих. Я не могу припомнить, когда впервые ощутил это острое желание строить красочные, грандиозные и в тоже время минималистские декорации, но, когда я предаюсь своей страсти, я ощущаю свою связь с чем-то, что вне меня. Когда я вижу прекрасную орхидею высоко на дереве, я просто обязан завладеть ею. Когда я вижу, что какая-то ракушка в моем творении не на своем месте, я должен положить ее правильно… То, что самки иногда приходят на открытие моей галереи и восхищаются моей работой, — просто счастливое совпадение, но было бы оскорбительно думать, что я творю, чтобы размножаться». К счастью, шалашники не умеют говорить, так что мы вправе использовать половой отбор для объяснения их работы, а они не смогут нам возразить [39] Miller, 2000a, p. 270.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу