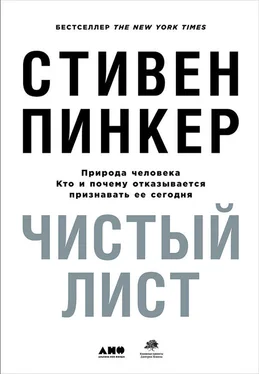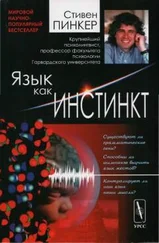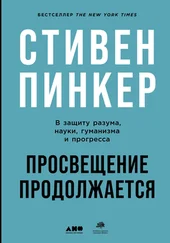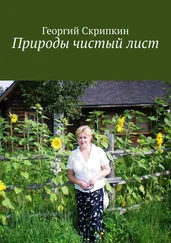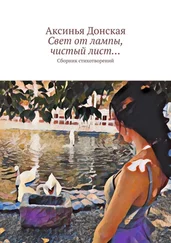Несмотря на эти возражения, важность второго закона ни в коем случае нельзя недооценивать. К «среднему классу» (к которому принадлежит большинство приемных родителей) могут относиться семьи, ведущие самый разный образ жизни, с самым разным домашним укладом и философией воспитания: от христиан-фундаменталистов в отдаленных районах Среднего Запада до врачей-евреев, живущих на Манхэттене. Поведенческие генетики обнаружили, что в действительности в их выборки попадают родители, представляющие полный диапазон существующих типов личности. И даже если приемные родители в каком-то смысле не репрезентативны, второму закону это ничем не грозит, потому что он проявляет себя и в крупных близнецовых исследованиях [26] Bouchard et al., 1990; Plomin & Daniels, 1987; Reiss et al., 2000; Rowe, 1994.
. Хотя выборки приемных родителей охватывают более узкий диапазон значений IQ (выше, чем в популяции в целом), это не объясняет, почему IQ их выросших детей не коррелируют, хотя, когда дети были маленькими, корреляция существовала [27] Plomin, 1991; Plomin & Daniels, 1987, p. 6; Plomin et al., 2001.
. Перед тем как рассмотреть революционные следствия этих открытий, давайте обратимся к третьему закону.
Третий закон. Значительная часть различий между людьми по сложным поведенческим признакам не объясняется ни генами, ни влиянием семьи. Это утверждение прямо вытекает из первого (учитывая, что наследуемость меньше единицы) и второго закона. Разделим все индивидуальные признаки людей на те, которые определяются генетикой, те, которые определяются семейной средой, и те, которые определяются индивидуальной средой. Если вклад генетических эффектов больше нуля и меньше единицы, а вклад семейной среды близок к нулю, то вклад индивидуальной средыдолжен отличаться от нуля. На самом деле вклад индивидуальной среды равен примерно 50 % — как всегда, в зависимости от того, что измеряется и как именно оно оценивается. По сути, это значит, что идентичные близнецы, выросшие вместе (у которых общие гены и семейное окружение), далеко не идентичны в интеллекте и личностных чертах. Следовательно, должны существовать какие-то причины — не генетические и не общесемейные, — которые делают идентичных близнецов разными и вообще делают людей такими, какие они есть [28] Bouchard, 1994; Plomin & Daniels, 1987; Rowe, 1994; Turkheimer, 2000; Turkheimer & Waldron, 2000.
. Как в песне Боба Дилана про мистера Джонса — тут что-то происходит, но мы не знаем, что именно.
Для простоты можно сказать так: гены — 50 %, общая среда — 0 %, индивидуальная среда — 50 % (или, если мы не хотим быть категоричными, гены — 40–50 %, общая среда — 0–10 %, индивидуальная среда — 50 %). Вот простой способ запомнить то, что мы здесь пытаемся объяснить: идентичные близнецы похожи на 50 % независимо от того, растут они вместе или отдельно. Не забывайте об этом и давайте посмотрим, что произойдет с вашими любимыми идеями о влиянии воспитания в детстве.
* * *
Хотя поведенческие генетики знали о наследуемости черт психики (первый закон) десятилетиями, потребовалось время, чтобы осознать отсутствие эффекта общей среды (второй закон) и значительное влияние индивидуальной среды (третий закон). Роберт Пломин и Дениз Дэниелс впервые забили тревогу в 1987 году в статье, названной «Почему дети одной семьи так отличаются друг от друга?». На загадочность этого явления обратили внимание и другие поведенческие генетики — Томас Бушар, Сандра Скарр и Дэвид Ликкен, а потом, в 1994 году, оно оказалось в центре внимания Дэвида Роува в его книге «Пределы влияния семьи» (The Limits of Family Influence). Головоломка вдохновила и историка Фрэнка Саллоуэя, который в 1996 году написал широко обсуждаемую книгу, посвященную связи «порядкового номера» ребенка в семье и революционного темперамента, — «Рожденный бунтовать» (Born to Rebel). Тем не менее тогда вряд ли кто-то, кроме специалистов по поведенческой генетике, действительно оценил значение второго и третьего законов.
Дело запахло керосином в 1998 году, когда Джудит Рич Харрис, независимый исследователь (которую пресса тут же окрестила «бабушкой из Нью-Джерси»), опубликовала книгу «Предпосылка воспитания». Заголовок, вынесенный на обложку Newsweek, поставил вопрос ребром: «Важны ли родители? Жаркие споры о развитии детей». Харрис вывела три закона из научных журналов и попыталась заставить людей осознать их последствия: бытовые представления о воспитании детей равно ошибочны и у экспертов, и у обычных людей.
Руссо сделал родителей и детей главными действующими лицами человеческой драмы [29] Schütze, 1987.
. Дети — «благородные дикари», а воспитание и образование может или помочь расцвести их природной сути, или обременить их багажом пороков цивилизации. В центре внимания трактовок «чистого листа» и «благородного дикаря» в XX веке — родители и дети. Бихевиористы заявляли, что детей формируют случайные обстоятельства, влияние которых усиливается реакцией родителей. Поэтому они советовали родителям не обращать внимания на слезы своих детей, потому что это только вознаградит их плач и увеличит частоту истерик. Фрейдисты выдвинули теорию, что на наше формирование влияют успешность отлучения от груди, приучения к туалету и идентификации с родителем того же пола, и советовали родителям не брать малышей к себе в постель, так как это может возбуждать в них травмирующие сексуальные желания. Все подряд развивали теории, что вина за психологические расстройства детей лежит на матерях: причина аутизма — в их холодности, шизофрении — в «двойных посланиях», анорексии — в давлении на дочерей, чтобы те стали идеальными. В низкой самооценке ребенка обвинялись «токсичные родители», а во всех остальных проблемах — «дисфункциональные семьи». Пациенты всякого рода психотерапевтов проводили свои 50 минут, оживляя детские конфликты, и большая часть биографий изучалась через призму поиска детских корней взрослых трагедий и триумфов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу