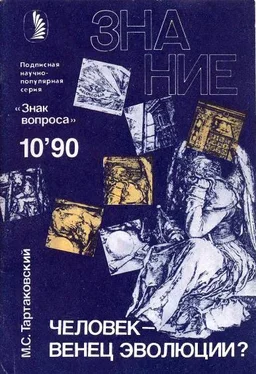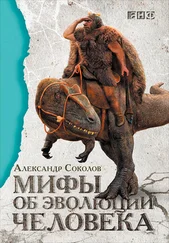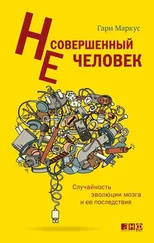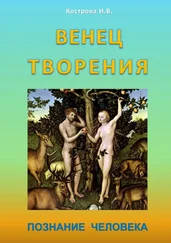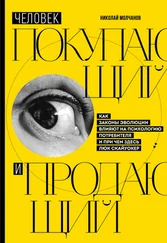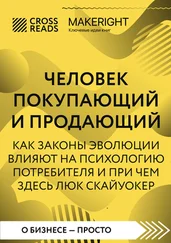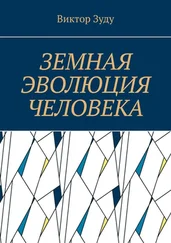Но что же это такое — личность? Сотни копий сломано в попытках дать исчерпывающее определение этому понятию. В быту ему обычно придается оценочная окраска: умный, благородный, деятельный, одним словом, «положительный» — «личность». Попытаемся вложить в столь важное здесь понятие строгое терминологическое содержание. А для этого коснёмся самого генезиса личности, ее биосоциальных корней.
В жизнедеятельности организмов очевидны два процесса, неразрывно связанных один с другим: приспособляемость к среде обитания и ее преодоление. При восхождении по эволюционной лестнице все явственнее проступает вторая сторона. Человек уже и вовсе не приспосабливается к природной среде, создает «вторую природу». (Поэтому, кстати, он так беспомощен вне ее: безоружный, вне жилища, тем более без одежды… Многие животные также создают жилища, но не залегший в берлогу на зиму медведь — «шатун» — благополучно доживает до весны.)
В социальной сфере мы видим все то же развитие — от пассивной покорности обстоятельствам (поведение человека родового строя, позднее — так называемый восточный фатализм) до активного их преодоления, общественной борьбы. Если даже иметь в виду только одну эпоху, современников, живущих в разных странах, то и здесь очевидно резкое различие в поведении людей в обществе, где человек лишь служит государству, «винтик», и в другом, где государство так или иначе служит человеку. В первом случае индивид, сознавая, что от него лично ничего не зависит, стремится максимально приспособиться, «притереться» к системе, слиться с ней, рассчитывая, что она «вывезет», тогда как в другом человек склонен положиться на собственную предприимчивость; он готов превозмочь трудности, преследуя личный интерес. Уже он в ином качественном состоянии, он — личность. Активность личности создает общественное богатство.
Определить абсолютный рубеж постепенного качественного изменения (вот, дескать, это еще не личность, а это уже — она!), разумеется, немыслимо. Но сравним среднего современного европейца с его античным пращуром. В мировоззрении древнего грека, хотя бы и в ярчайшую эпоху Перикла, судьба, фатум, всеохватывающий рок играли решающую роль. Человек стремился к тому, что, как ему казалось, назначено было самой судьбой. Рок движет поступками всех греческих литературных героев; сами над собой они не властны. В общем, это еще отголосок первобытного табу…
Тогда как наш современник, даже так называемый обыватель, вовсе не склонен доверяться судьбе и обычно сознает себя кузнецом своего счастья. Даже приспособленчество этого обывателя вполне осмысленно, проще говоря, цинично, но это куда больше свидетельствует в пользу личности (мы лишили этот термин эмоциональной окраски), чем конформизм неосознанный, почти инстинктивный, безвыходный. Личность это еще и свобода воли.
Вся история в конце концов — это борьба личностного в человеке с коммунальным, пассивным началом. Как сосуществуют рядом разные общества, так в каждом намешаны очень разные индивиды: в одних ярко выражена личностная суть, в других — еле брезжит. Энергия общества да и хозяйственная производительность определяются соотношением тех и других. «Парма не может быть республикой, потому что в Парме нет республиканцев» — так язвительно характеризовал Стендаль гнетущую атмосферу тиранического княжества, где у человека отнято право быть самим собой.
Потому что личностное — как потенция — коренится в самой человеческой природе. Наука встает подчас в тупик, сталкиваясь с загадочным Феноменом так называемых резервов мозга, как бы запрограммированности на нечто неизмеримо большее, чем требуется для повседневной жизни, для элементарного выживания и воспроизводства себе подобных. Для столь утилитарной цели, для того чтобы перешагнуть порог естественного отбора, надо ли быть талантливым? Ну а гениальность по здравому размышлению выглядящая едва ли не противоестественной? Не кажется ли, что гений явился к нам откуда-то из будущего, где его чрезвычайные возможности были как-то вполне практически задействованы?
Задумаемся, однако, не рассчитана ли психика любого животного, даже элементарная нервная реакция (муха настораживается уже при намеке на опасность еще только ожидаемую), на предугадывание событий, не на то, что есть, а на то, что лишь в принципе возможно? Но раз так — значит, бытие действительно отнюдь не перекрывает сознание, оно шире.
Мучимый загадкой того, что личность как бы перерастает свою биологическую суть, Марсель Пруст писал: «В нашей жизни все происходит так, как если бы мы вступали в нее под бременем обязательств, принятых в некоей прошлой жизни; в обстоятельствах нашей жизни на этой земле нельзя найти никаких оснований, чтобы считать себя обязанным делать добро, быть чутким и даже вежливым, как нет основания у неверующего художника считать себя обязанным двадцать раз переделывать какой-то фрагмент, дабы вызвать восхищение, которое телу его, изглоданному червями, будет безразлично. Все эти обязанности, здешней жизнью не оправданные, относятся, по-видимому, к иному миру, основанному на доброте, справедливости и жертве и совершенно отличному от нашего, — миру, который мы покидаем, дабы родиться на этой земле».
Читать дальше