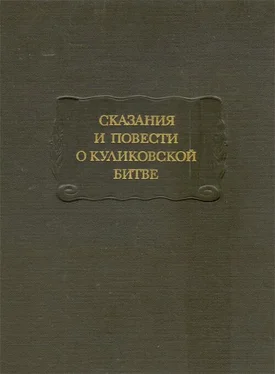Все шесть рассмотренных примеров не могут являться свидетельством текстуальной зависимости «Сказания» от пространной летописной повести. Я бы сказал более того: все они свидетельствуют как раз о другом, а именно о том, что непосредственной текстуальной связи между «Сказанием» и пространной летописной повестью нет, несмотря на бесспорное совпадение во многом обоих произведений. Если бы автор одного из этих памятников обращался к тексту другого как к своему источнику, то в столь больших по объему текстах, какими являются «Сказание» и пространная летописная повесть, непременно имелись бы значительные текстуальные совпадения. О том, что это должно было быть именно так, свидетельствуют вставки в «Сказание» из «Задонщины»: мы без труда обнаруживаем значительные по объему и близкие по тексту совпадения между «Сказанием» и «Задонщиной». Когда же мы сравниваем «Сказание» с пространной летописной повестью, то поражает почти полное отсутствие текстуальных совпадений между этими произведениями при бесспорной общей близости между ними. В этой связи заслуживают особого внимания высказывания А. А. Шахматова о характере взаимоотношений памятников Куликовского цикла.
А. А. Шахматов отмечал близость «Сказания» и летописной повести, но он же, завершая свой отзыв на труд С. К. Шамбинаго, писал, что тому «не удалось доказать ни влияния Летописной повести на Поведание Со-фония («Задонщину», — JI. Д.), ни также происхождения Сказания из Повестй». 223 223 Шахматов. Отзыв, с. 192.
Именно отсутствие текстуальных совпадений между «Сказанием» и пространной летописной повестью привело А. А. Шахматова к заключению, что «дошедшие до нас произведения, посвященные Мамаеву побоищу, не могут быть сведены к одному общему типу, к одному родоначальнику, в виде той или иной повести». 224 224 Там же.
А. А. Шахматов писал: «Куликовская битва вызвала появление нескольких произведений: мы указывали на Летописную Повесть, официальную реляцию и Слово о Мамаевом побоище. Дальнейшая история сюжета состояла в эволюции не одного какого-либо из этих произведений, а во взаимном их влиянии, с одной стороны, и самостоятельном развитии Летописной Повести и Слова, с другой». 225 225 Там же, с. 193.
«Слово о Мамаевом побоище», по предположению А. А. Шахматова, — еще одно поэтическое произведение о Куликовской битве, до нас не дошедшее. По гипотезе А. А. Шахматова, к этому «Слову» обращались и автор «Задонщины», и автор «Сказания». Как считал А. А. Шахматов, «Слово» в целом было близко к «Сказанию», «на нем основывается большая часть Сказания». 226 226 Там же, с. 190.
Гипотеза А. А. Шахматова подтверждений не нашла и, по существу, принята не была. Однако уже сам факт выдвижения этой гипотезы таким ученым, как А. А. Шахматов, заслуживает самого пристального внимания. Текстологические наблюдения, сделанные над памятниками Куликовского цикла уже после работы А. А. Шахматова, все больше подтверждают сложность взаимоотношений между памятниками, посвященными Мамаеву побоищу. И, может быть, гипотеза А. А. Шахматова была несправедливо забыта, и, лишь пользуясь ею, можно будет удовлетворительно объяснить всю сложность текстологических соотношений этих произведений древнерусской литературы.
«Сказание о Мамаевом побоище» А. А. Шахматов датировал первой четвертью XVI в., но основной источник «Сказания» — гипотетическое «Слово о Мамаевом побоище», по его мнению, было создано не позже конца XIV в. Независимо от того, признаем мы или нет существование «Слова о Мамаевом побоище», характер текстологических соотношений «Сказания» и пространной летописной повести таков, что мы, не имея возможности непосредственно возводить «Сказание» к пространной летописной повести или же пространную летописную повесть к «Сказанию», должны признать, что оба произведения пользовались каким-то общим источником или несколькими общими источниками, которые наиболее полно отразились в «Сказании». И у нас есть основания утверждать, что в большинстве подробностей и деталей «Сказания» исторического характера, не имеющих соответствий в пространной летописной повести, перед нами не поздние домыслы, а отражение фактов, не зафиксированных другими источниками.
«Сказание о Мамаевом побоище» — книжно-риторическое произведение и по всему характеру своему и по стилю, это произведение с ярко выраженной церковно-религпозной окраской. Но было бы неверно только в этом видеть характерные признаки данного памятника древнерусской литературы. Если бы «Сказанию» были присущи только эти черты, оно не пользовалось бы такой популярностью у древнерусских читателей и не вызывало бы к себе такого интереса у читателей нашего времени. Книжная риторика, характеризующая исключительно высокое литературное мастерство автора произведения, не заслоняет реальных подробностей великой битвы, решившей судьбу русского народа. Эти реальные подробности излагаются увлекательно, сюжетный характер произведения заставляет читателя сопереживать тому, о чем он читает в «Сказании», с волнением следить за развертывающимися перед ним событиями. Наряду с многочисленными молитвами, цитатами и примерами из книг священного писания, наряду с морализирующими рассуждениями автора, в «Сказании» немало поэтических картин, эпических в своей основе эпизодов, заимствований из поэтической «Задонщины», метафор, эпитетов и сравнений, уходящих своими корнями в устное народное творчество. И книжно-риторическая и поэтическая стихии в «Сказании» предстают не в механическом соединении, а в тесном переплетении, что делает «Сказание» одним из интереснейших литературных памятников Древней Руси.
Читать дальше