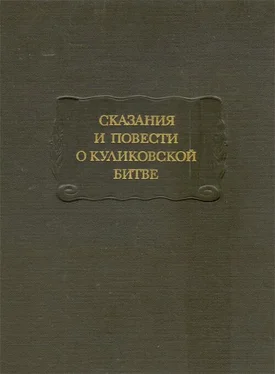В краткой летописной повести, в ее средней части, можно отметить текстуальные сближения с «Задонщиной», на которые впервые обратила внимание М. А. Салмина. Одно из них — слова о стоянии «на костях». В краткой летописной повести эта этикетная формула, обозначающая победу над врагом на поле битвы, находится в таком контексте: «Князь же великий Дмитрей Иванович съ прочими князи русскыми и съ воеводами, и с бояры, и с велможами, и со остаточными плъки русскыми, ставъ на костех, благодари бога и похвали похвалами дружину свою…» (с. 15). В «Задонщине» по списку Ундольского читаем: «И стал великий князь Дмитрей Ивановичь сь своим братом с князем Владиме-ром Андреевичем и со остальными своими воеводами на костѣхъ на поле Куликове на речьке Напрядѣ» (с. 540). В других списках «Задонщины» эта фраза более кратка. В И-1 : «Сталъ князь великый с своим братомъ княземъ Владимеромъ Ондрѣевпчемъ и с своими воеводами на костехъ» (с. 545). В С: «Ставши на костехъ поганих татар» (с. 555). На основании чтений разных списков «Задонщины» с уверенностью можно сказать лишь, что в первоначальном тексте произведения безусловно читалась сама формула «встали на костях». Но формула эта — общее место очень многих древнерусских повествований о битвах. Мы ее найдем под разными годами в разных летописях: «Новгородци же стояша на костех 5 дней» (Новгородская I летопись. 1268 г.); «Великий же князь Дмитрей со всеми князи стоя три дня на костех» (Московский летописный свод конца XV в., 1268 г.); «И сташа псковичи на костех» (Псковская I летопись, 1343 г.); «И побеже князь Свитригайло с побоища к По-лотску, а князь Жидимонт ста на костех» (Псковская I летопись, 1433 г.) и т. д. Таким образом, совпадение этой формулы в краткой летописной повести с «Задонщиной» ни о чем не говорит: сама по себе она не может свидетельствовать о текстуальной связи разных памятников. Однако в краткой летописной повести этикетная формула «встать на костях» объединена с другим традиционным образом рассказов о воинских битвах — словами о захваченной добыче. И вот именно эти слова в краткой летописшй повести совпадают с соответствующим местом «Задонщины».
М. А. Салмина обратила внимание на стилистическую близость краткой летописной повести к другим статьям Троицкой летописи. В близких по расположению к повести «О великом побоищи…» рассказах Троицкой летописи несколько раз встречается этикетная формула о захваченной добыче. В повести о побоище на реке Пьяне (1377 г.): «Татарове же, одо-левше христианом, и сташа на костех, полон весь и грабежъ ту оставиша»; 199 199 ПСРЛ, т. XV, вып. 1, Рогожский летописец. Пг., 1922, стб. 119.
в повести о битве на Воже (1378 г.): «Князь же великий Дмитрей возвратися отътуду на Москву съ победою воликою и рати роспусти съ многою корыстию »; 200 200 Там же, стб. 135.
под 1385 г., в рассказе о набеге Олега Рязанского на Коломну: «.. и лепшкх мужей поймав, поведе съ собою, и злата, и сребра, и товара всякого наимався, отиде и возвратися въ свою землю
съ многою корыстию ». 201 201 Там же, стб. 150.
Таким образом, само обращение к формуле «встать на костях» и к словам о захваченной добыче в краткой летописной повести о Куликовской битве соответствует характеру той части Троицкой летописи, где находится эта повесть. Но формула о захваченной добыче в краткой летописной повести заметно отличается по характеру и стилю от всех вышеприведенных примеров: «И мнози вой его (Дмитрия Донского, — JI. Д.) возрадовашася, яко обрѣтающе користъ мноѣу: погна бо с собою многа стада кони, и велъблюды, и волы, им же нтьсть числа, и досптъх, и порты, и товаръ» (с. 15). И вот как раз в дополнительных, избыточных элементах, которые отличают этикетный оборот о захваченной добыче в краткой летописной повести о Куликовской битве от остальных сходных по ситуации рассказав Троицкой летописи, формулировка эта сближается с соответствующим местом «Задонщины». В «Задонщине» по списку У мы читаем: «Уже бо руские сынове разграбиша татарские узорочья, и досптьхи, и кони, и волы, и верблуды, и вино, и сахар, и дорогое узорочие . Уже жены руские восплескаша татарским златом» (с. 540). Близко к этому чтение и других списков «Задонщины». Повторение слова «уже» в приведенной фразе не случайно. Дело в том, что эта фраза в «Задонщине» входит в часть текста, повествующего о сетовании татар, потерпевших поражение: «Уже нам, брате, в земли своей не бывать и дѣтей своих не видать, а в Русь ратию нам не хаживать, а выхода нам у руских людей не прашивать. Уже бо востона земля Татарская, бѣдами и тугою покрыша бо сердца их, хотение князем и похвала Руской земли ходити. Уже бо веселие наше пониче» (сп. У, с. 539–540). В «Задонщине» весь этот отрывок восходит к основному источнику памятника — к «Слову о полку Игореве». Он восходит к той части «Слова», которая завершает рассказ о поражении войск Игоря Святославича Новгород-Северского. Но если в «Слове»ѣ «восплакали» русские жены, Игорь утопил «жиръ» «во днѣ Каялы» и потерял русское «злато», а на берегу синего моря воспели «готския красныя дѣвы… звоня русскымъ златомъ», то в «Задонщине» наоборот: «востона земля Татарская», «руские сынове разграбиша татарские узорочья» (перечисление этих узорочий частично совпадает в «Задонщине» и краткой летописной повести) и «уже жены руские восплескаша татарским златом» (сп. У, с. 540, близкое к этому чтение и в остальных списках).
Читать дальше