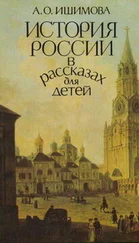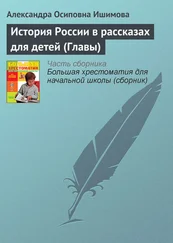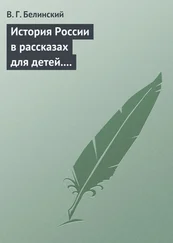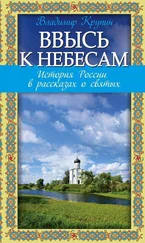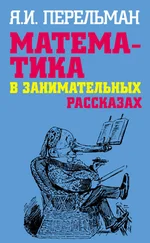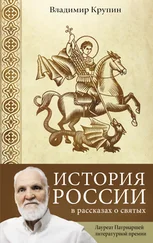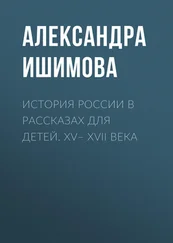День ее был заполнен игрой в карты, разговорами и сплетнями с приживалками и гадалками, разбором драк шутов и дураков.
Очень любила она стрельбу из ружей и была столь в ней искусна, что на лету била птицу. Во всех комнатах стояло множество заряженных ружей, и Анна стреляла через открытые окна в сорок, ворон и даже ласточек, пролетающих мимо.
В Петергофе был устроен для нее зверинец, в котором содержалось множество зайцев и оленей, завезенных из Германии и Сибири. Если заяц или олень пробегали мимо ее окон, участь их была решена — Анна Ивановна стреляла без промаха. Для нее был сооружен тир, и императрица стреляла по черной доске даже зимой при свечах. Остаток дня она проводила в манеже, обучаясь верховой езде, в чем ей очень помогал ее фаворит герцог Бирон, пропадавший в манеже и в конюшне целыми днями.
Внешне Анна Ивановна была нехороша. Толстая, высокая, длинноносая и громкоголосая, имела она к тому же и лицо, побитое оспой. Она, возможно, прожила бы долго, но подагра, воспаление костей и каменная болезнь, доставшиеся ей по наследству, свели ее в могилу.
(&$ годы царствования Анны Ивановны произошел памятный на многие времена знаменитый эпизод, связанный со строительством Ледяного дома.
Князь Михаил Алексеевич Голицын, прозванный Квасником, в юности был любимцем Петра I и по его воле поехал учиться во Францию в Парижский университет — знаменитую Сорбонну. Потом Голицын переехал в Италию и там принял католичество.
Анна Ивановна, вступив на престол и разогнав Верховный тайный совет, отправила многих родственников Голицына в ссылку, а князя-католика велела привезти в Петербург. И здесь в наказание за измену вере обратила в шута, а затем велела женить его на своей любимой шутихе-кал-мычке Евдокии Ивановне Бужениновой. Для их-то свадьбы и был построен на льду замерзшей Невы Ледяной дом. Он был выложен из плит чистого льда, облитых затем для крепости водой. Дом имел 6 метров в высоту, 16 метров в длину и 5 метров в ширину, был украшен ледяными статуями, фонарями и часами. Перед ним были изваяны ледяные дельфины, слон и 8 пушек и мортир. Все убранство двух больших комнат также было сделано изо льда.
На празднество из всех губерний России были присланы инородцы, которые вместе с придворными составили свадебный кортеж в 300 персон и ехали к Ледяному дому на оленях, верблюдах, свиньях, козах, собаках с музыкой и песнями.
Царица, пастух и шинкарка
(2/^етом 1731 года из Венгрии в Петербург возвратился полковник Федор Степанович Вишневский. Он ездил на Дунай покупать вино для двора императрицы Анны Ивановны. Полковник привез не только обоз вина, но и прекрасного лицом и статью двадцатидвухлетнего Алексея Розума, встреченного им возле города Глухова, на хуторе Лемеши, что между Черниговом и Киевом.
Как-то вечером встал обоз в степи, возчики распрягли коней, раскупорили бочонок вина, зажгли костер, и на огонек пришли к ним с хутора хлопцы и девчата. А с ними местный пастух Алеша Розум, славившийся на всю округу дивным голосом.
Хлопцы и девчата завели хороводы, а потом и запели. И лучше, задушевнее всех пел Алеша Розум. Вишневский решил взять малороссийского соловья в Петербург, чтобы стал он украшением певческой капеллы государыни-императрицы.
В Петербурге Алексей стал первым певцом дворцового хора и вскоре попался на глаза дочери Петра I — Елизавете Петровне (1709—1761), которой сразу очень понравился. Приблизив Розума к своей особе, Елизавета сначала переименовала нового друга из певчих в «придворные бандуристы», а затем он стал гоф-интендантом, получив под свое начало двор и все имения своей благодетельницы.
Став одним из влиятельных придворных, Розум, превратившийся в Алексея Григорьевича Разумовского, остался добрым, скромным человеком, каким был и прежде. Он любил свою мать, заботился о брате и трех сестрах, посылая им деньги, принимал своих деревенских земляков, приезжавших в Петербург, и старался никому не делать зла.
Алексей Разумовский сторонился дворцовых интриг, политических игр, коварства, хитростей и не изменил себе на протяжении всей жизни. Этими качествами он снискал уважение многих придворных. В это время на первое место у цесаревны выступили политические мотивы, ранее остававшиеся на втором плане: она решила вступить в борьбу за трон. Елизавета Петровна не забывала, чья она дочь, и, конечно, знала, что многие в России свято верят, что ее права на российский императорский трон единственно законные.
Читать дальше