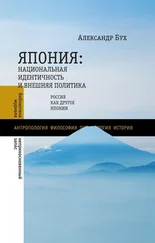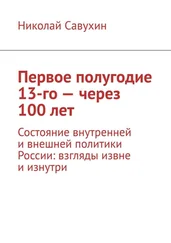Отставание России в военной области, разумеется, не могло не осознаваться ее политическими деятелями. С их стороны предпринимались постоянные попытки поднять огневую мощь и тактическую выучку своих войск до европейского уровня. Но решалась эта проблема в основном за счет импорта оружия, стратегических материалов и найма на службу иностранных офицеров и военных инженеров. Так, накануне русско-польской войны 1654–1667 гг. Россия закупила в Голландии и Швеции 40 тыс. мушкетов, 30 тыс. пудов свинца и 20 тыс. пудов пороха. Если учесть, что общая численность русской армии составляла не менее 60 тыс. человек, то, следовательно, 2/ 3ее было вооружено импортными мушкетами и боеприпасами к ним. Поскольку закупки были и до этого времени, можно предположить, что и остальная часть оружия была аналогичного происхождения.
Насыщение армии новой техникой не приводило, однако, к существенному перелому на полях сражений в пользу России, о чем свидетельствуют результаты всех войн, которые она вела на протяжении второй половины XVII в. И главная причина этого заключалась в том, что техническая модернизация вооруженных сил не опиралась на адекватную ей структуру, которая, несмотря на некоторые нововведения, в целом оставалась крайне архаичной. Так, Петр I, оценивая боеспособность русских войск второй половины XVII в., писал, что «не точию с регулярными народы, но и с варварами (и без стыда), что ни протиф кого стоять не могли».
Фактически полная зависимость русской армии и ее боеспособности от поставок вооружения из ведущих европейских держав не могла, естественно, не влиять на внешнеполитический курс России. В Москве отчетливо понимали это положение вещей, усугублявшееся еще и тем, что единственный океанский порт России — Архангельск, через который поступало в основном оружие, находился в зоне досягаемости шведских сухопутных сил и флота. Поэтому, после Столбовского мира 1617 г., завершившего русско-шведскую войну начала XVII в., правительства первых Романовых взяли курс на сохранение хороших отношений со Швецией. Но это положение не могло сохраняться вечно. Политические круги России были хорошо информированы о «потаенных» видах Стокгольма на новгородские земли и Беломорье, да и сама Москва не могла смириться с положениями Столбовского мирного договора, по которому у России были отняты земли в Прибалтике с городами Орешек, Копоре, Ям, Ивангород и Корела. В этой ситуации русско-шведский антагонизм мог в любое время разразиться военным столкновением и привести к захвату Швецией Архангельска, что — имело бы для России катастрофические последствия. Поэтому, с середины 50-х годов XVII в. в русском правительстве все настойчивее укрепляется мысль о необходимости прорыва к берегам Балтийского моря с целью радикального улучшения условий внешнеэкономических связей с Западной Европой.
Уже в ходе русско-польской войны 1654–1667 гг. Россия пыталась решить эту проблему за счет присоединения Литвы и Курляндии. Но первые же успехи русского оружия в кампании 1654 г. вызвали серьезное беспокойство в Швеции, поскольку возможность утверждения России южнее шведской Лифляндии вступала в противоречие с политической доктриной Стокгольма, предусматривающей превращение Балтийского моря в «шведское озеро». Допустить русских к берегам Прибалтики, по словам шведского короля Густава-Адольфа, было бы «крупнейшей политической ошибкой». Чтобы упредить русское продвижение к Курляндии, летом 1655 г. Швеция вступила в войну с Польшей. Разгром шведами польской армии и взятие Варшавы создавали предпосылки резкого усиления Швеции за счет Польши, Литвы и Курляндии, что объективно несло для жизненных интересов России большую угрозу, чем ослабленная Польша. В мае 1656 г., заключив перемирие с Польшей, Россия вступила в войну со Швецией. Однако война с одной из передовых в военном отношении держав Европы оказалась не по силам для Московского государства. В 1661 г. Россия была вынуждена заключить со Швецией Кардисский мир на условиях Столбовского соглашения.
Военная слабость России, проявившаяся в неудачной борьбе за Прибалтику, а также обострение ситуации на ее южных рубежах, не только не сняли с повестки дня внешней политики балтийский вопрос, но более четко показали пути его решения. В Москве все больше склонялись к мысли, что успешное решение этой проблемы и успешная борьба с крымско-турецкой экспансией возможны при условии прочного военно-политического союза с Польшей.
Читать дальше
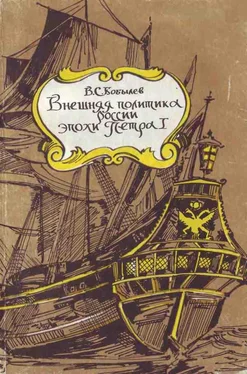

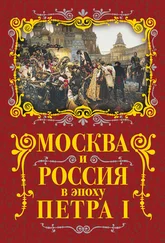
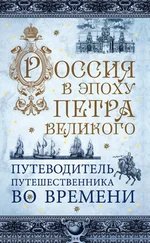
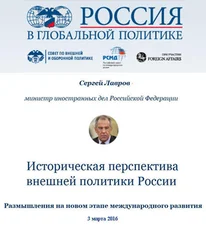
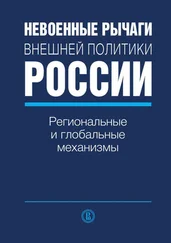
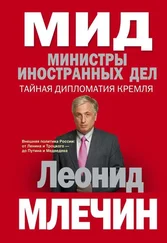
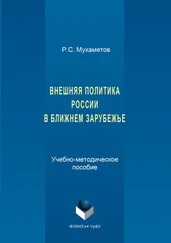

![Игорь Иванов - Внешняя политика России в эпоху глобализации [Статьи и выступления]](/books/424087/igor-ivanov-vneshnyaya-politika-rossii-v-epohu-globa-thumb.webp)