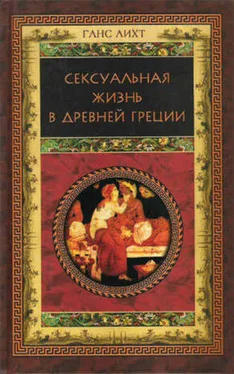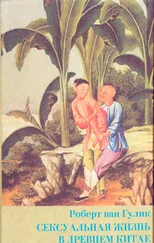Несмотря на то что описанное здесь безрассудство имело место в приватной компании, все же этот танец был широко известен и, конечно, благодаря его идее мог быть назван непристойным, а он к тому же исполнялся на публике. Того же свойства были и старинные танцы, исполнявшиеся на празднествах Артемиды, и танец каллабидов, а также знаменитый сиккин. Сами древние не были уверены в происхождении этого названия, однако нам известно, что в сатирических драмах этот танец исполняли сатиры, и в ходе гротесковых кривляний они постепенно срывали с себя одежды, что, с нашей точки зрения, определенно считается неприличным. Мягкие звуки флейты, несомненно, добавляли настроения в исполнение этого танца.
Тоже непристойным, или скорее эротическим, был и кордакс, который состоял из движений вперед и назад, как бы имитирующих шаги пьяного; к этому добавлялась серия гротескных движений, которые намеренно и явно повторяли движения тела, и заканчивался танец тем, что танцоры обнажались, так что кордакс стал типичным названием непристойного танца.
Подытоживая, можно сказать, что кордакс был аналогом того, что в наши дни называется «эксгибиционизмом», но с той основной разницей, что греки получали удовольствие от такого эксгибиционизма, который им предлагался, и разумно избегали общественного скандала, время от времени позволяя себе исполнять такие танцы.
Игры в мяч тесно связаны с танцем, если рассматривать их с точки зрения художественного представления. Гармоничные движения играющих, которые выставляли напоказ красоту телесных форм, можно было назвать почти танцевальными в античном смысле слова. Гомер изобразил феакийцев, которые хотели оказать гостеприимство своему гостю Одиссею следующим образом: «Но Алкиной повелел Галионту вдвоем с Лаодамом / Пляску начать: в ней не мог превосходством никто победить их. / Мяч разноцветный, для них рукодельным Полибием сшитый, / Взяв, Лаодам с молодым Галионтом на ровную площадь / Вышли; закинувши голову, мяч к облакам темно-светлым / Бросил один; а другой разбежался и, прянув высоко, / Мяч на лету подхватил, до земли не коснувшись ногами. / Легким бросаньем мяча в высоту отличась пред народом, / Начали оба по гладкому лону земли плодоносной / Быстро плясать; и затопали юноши в меру ногами, / Стоя кругом, и от топота ног их вся площадь гремела» [50].
Афиней описывает разные виды игры в мяч и дает ученые объяснения названия и происхождения игры, цитируя строки из комедии Дамоксена: «Мальчик, около семнадцати лет от роду, играл в мяч. Он был выходцем с Коса, острова, который порождает богов. Когда он обращался к зрителям, кидал им мяч и ловил его обратно, мы громко аплодировали и кричали: «Какой красивый мальчик! Какое изящество и гармония во всех его движениях!», а когда он заговорил, каждый вскричал: «Чудо красоты! Никогда не видел подобной чарующей грации! Если я еще задержусь здесь, со мной что-то произойдет; и – ах! – вот уже мое сердце томится от любви».
Особую возможность получать удовольствие от наблюдения за танцем, сопровождавшимся вкрадчивыми звуками музыки, особенно сладостной флейты, предоставляли, помимо общественных праздников, пиры и застолья. Греческие застолья, или, как греки их называли, симпосиуме, столь часто описаны и хорошо представлены в литературе, что подробный рассказ о них был бы излишним. Наконец, мы можем обратиться к двум произведениям античности, которые следует прочитать всякому, кто хочет больше узнать о самом духе античной культуры. Это произведения Платона и Ксенофонта, которые дошли до нас под одним названием «Пир». Если утонченное повествование Ксенофонта с его живой правдой и свежестью вводит нас в бытовые условия общества его времени, то интеллектуальная и в то же время легкодоступная философия Платона, с беседами, полными аромата поэзии, о природе любви, всегда будет занимать читателя, если только он не погружен полностью в тривиальности ежедневного быта, и наполнит его сладостным томлением по цветущему веку гуманности, и он всегда будет, по словам Гёте, «всей душой устремляться к земле греков».
Здесь следует упомянуть, что вино в Древней Греции было настолько дешево, что его вполне могли позволить себе даже рабы; что зачастую вина употребляли слишком много; что женщины настолько отдавали должное вину, что во многих местах, например в Массилии и Милете, женщинам запрещалось пить вино и они вынуждены были довольствоваться чистой водой.
На симпосиуме, если он проходил в соответствии с обычаем, употребление вина начиналось лишь по завершении общей трапезы. Обычно выбирался распорядитель, так называемый симпосиарх, или басилевс, чьим распоряжениям должны были следовать собравшиеся. Он решал, в какой пропорции следовало смешивать вино и воду. Естественно, пропорции зависели от интеллектуального уровня гостей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу