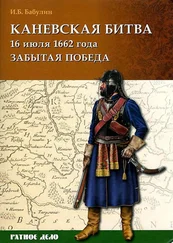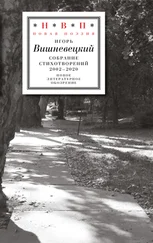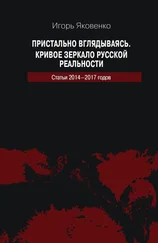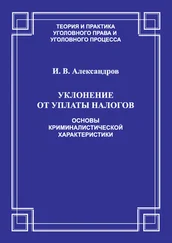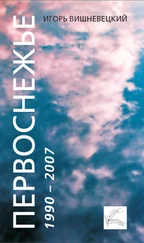Лурье в музыкальном плане был известен как оригинальный композитор и ближайшее доверенное лицо Стравинского в 1929–1939 годах, а также как недюжинный теоретик и организатор. До октября 1917 г. он был близок футуристам, а после возглавил Музыкальный отдел (МУЗО) Наркомпроса. Однако, оказавшись в начале 1920-х годов в Берлине, Лурье предпочел задержаться в Западной Европе, сделавшись невозвращенцем. Два левоевразийских издания — парижские сборники «Версты» (1926–1928) и выходившая в Кламаре, под Парижем, еженедельная газета «Евразия» (1928–1929), оба издававшиеся при редакторском участии Сувчинского (а «Евразия» еще и при редакторском участии Лурье), — были заполнены интереснейшими статьями на музыкальные темы, принадлежавшими перу как самого Лурье, так и другого жившего тогда в Западной Европе русского композитора, Владимира Дукельского. Кроме того, и Сувчинский и Лурье публиковались в 1920–1930-е во франко- и англоязычной, а Лурье еще и в русской эмигрантской прессе (Сувчинский эмигрантской прессы избегал). Парижские премьеры сочинений Лурье давали современникам представление о том, какой может быть музыка, максимально соответствующая «евразийскому мировидению». Не следует сбрасывать со счетов и близкой дружбы Лурье, католика по вероисповеданию, с ведущим философом-неотомистом Жаком Маритеном [12], защитником идеи «порядка» в эстетике и философии, так гармонировавшей с эстетико-политическими взглядами самого Лурье [13], и, конечно же, все расширявшихся контактов другого евразийца, Сувчинского, с западноевропейскими музыкантами и его все возрастающей роли в их среде как уникального арбитра в вопросах эстетических, да и не только в них. Музыка рассматривалась Сувчинским и Лурье как поле приложения определенных историко-политических концепций, как средство их пропаганды, но ближайшим объектом пропаганды были, конечно, не западные европейцы, а русские экспатрианты. Сувчинский стремился приобщить к близкой евразийцам проблематике Прокофьева (поначалу не слишком удачно [14]). И Сувчинский и Лурье были близки со Стравинским, который сам пришел к прото-евразийским идеям еще в середине 1910-х годов [15], а также с юным Дукельским, вскоре, в 1929 г., уехавшим в Северную Америку и для дальнейшей пропаганды евразийских идей более не достижимым, но зато создавшим в Новом Свете очень близкую духу евразийства ораторию «Конец Санкт-Петербурга» (1931–1937) [16]. Дукельский, в свою очередь, был очень дружен с Прокофьевым и — через «Конец Санкт-Петербурга», с партитурой которого последний был знаком и даже заинтересовал ею Мясковского [17], — повлиял на две экспериментальные советские кантаты Прокофьева, «К XX-летию Октября» (1936–1937) и «Здравицу» (1939).
Я постараюсь продемонстрировать, как композиторство, писание музыкально-эстетических работ и философско-эстетические размышления на музыкальные темы становились формой политической деятельности, а также результаты предложенного зарубежными русскими музыкантами сплава эстетики и политики. Может быть, учитывая использование ряда идей евразийства разными по ориентации политическими силами внутри современной России, данный анализ послужит уроком на будущее — если, конечно, мы допускаем, что кто-либо когда-либо учится на опыте других.
б) Предыстория «евразийского подхода»:
профессионализация русской музыки и ее издержки
Следует начать с кризиса музыкального национализма. Данное выражение употребляется здесь, как и в современной западной литературе, скорее в смысле «национального, патриотического направления», которое не следует путать с направлением шовинистическим и ксенофобским. Мечта о согласии разума нации (интеллигенции) с ее телом, двигавшая начиная со второй половины XIX в. огромным числом русских философов, писателей, политиков и музыкантов, породила, среди прочего, и русскую композиторскую школу.
Школа эта была озабочена созданием музыки, ни в чем не уступающей, скажем, Вагнеру (желание Римского-Корсакова), не говоря о французских образцах. В XX в. Дебюсси, Равель и «Группа шести» уже многому учились у своих восточных коллег.
Однако к началу XX в. популистское мышление целостного, органицистского толка как в русской философии и политике, так и в искусстве, в том числе музыкальном, превратилось в рутину, лишь по недоразумению ассоциировавшуюся с чем-то «передовым». Такой, к примеру, много обещавший композитор, как А. К. Глазунов (1865–1936), в целом к 1910-м годам превратился в местного аналога поздних романтиков Рихарда Штрауса и Эдуарда Элгара и, как и они, продолжал производить масштабные музыкальные полотна (в данном случае балеты, симфонии и концерты) с единственной целью — поддержать статус-кво того, что еще понималось как «национальная школа», но на деле превратилось в общеевропейский стиль и исчерпало эстетический заряд обновления.
Читать дальше
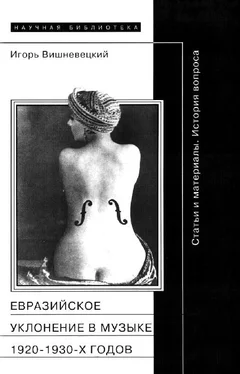


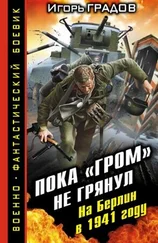
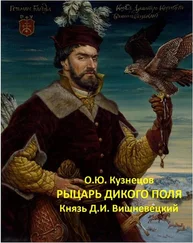


![Игорь Вишневецкий - Неизбирательное сродство [сборник]](/books/427467/igor-vishneveckij-neizbiratelnoe-srodstvo-sborni-thumb.webp)