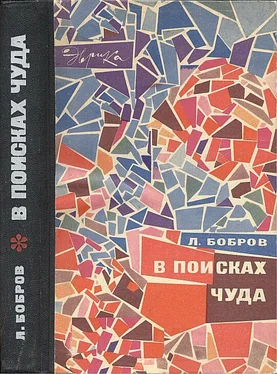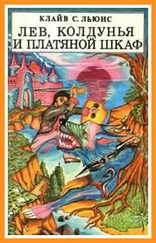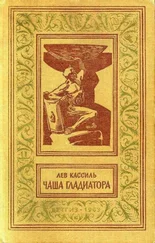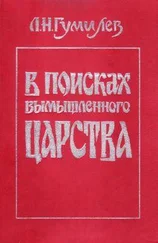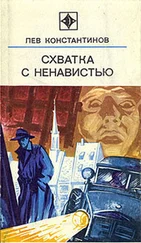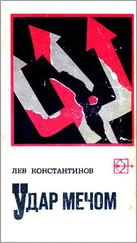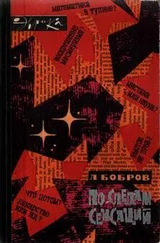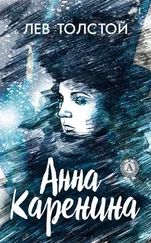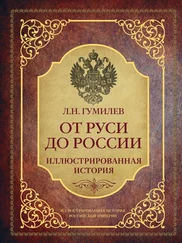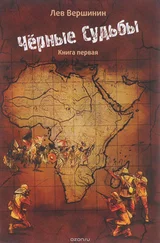Раньше думали, будто качественная и количественная разница между горением нормальным, которое полностью определяется кинетикой процесса, и детонационным, которое от нее не зависит (почти не зависит!), огромная. Взять хотя бы быстроту распространения того и другого — разрыв здесь прямо-таки колоссален.
В 1939 году К. И. Щелкин, ныне член-корреспондент Академии наук СССР, обнаружил, что этой «непроходимой пропасти» вовсе не существует.
Оказывается, пламя способно бежать с промежуточными скоростями. Более того, медленное горение при некоторых условиях может самочинно разгоняться и переходить в детонационное! Например, при наличии турбулентности, которую легко организовать, если, скажем, сделать стенки трубы или камеры негладкими, а шероховатыми. Щелкину удалось на опыте изменять даже такую вроде бы незыблемую константу, как скорость детонации.
Турбулентное, вихревое; бурное горение особенно интересно с точки зрения (ракетчиков: именно в таком режиме работает двигатель. Стремительно несущийся газовый поток тормозится малейшим выступом камеры сгорания или сопла. Пламя цепляется за препятствия, удерживается около них. Между тем в пламени-то как раз и протекает химическая реакция горения! Как обеспечить топливу максимальную полноту сгорания при минимальных размерах камеры и тепловых напряжениях?
Решение задачи основано на теории турбулентного горения, созданной К. И. Щелкиным, Д. А. Франк-Каменецким и Е. М. Минским. Советские ученые не только использовали шероховатости, но и ставили на пути огненного потока специальные экраны, смотрели, как дополнительные завихрения влияют на эффективность горения.
Эти поиски вскоре нашли многочисленных продолжателей и дали богатые всходы. Благодаря им достигла своего расцвета реактивная авиация, а ракетная техника взяла стремительный разбег.
В 1965 году Я. К. Трошин (Институт химической физики АН СССР), Б. В. Войцеховский и Р. И. Солоухин (Институт гидродинамики Сибирского отделения АН СССР) за цикл работ по газовой детонации удостоены Ленинской премии. И это лишь один из многих примеров, иллюстрирующих судьбу научной эстафеты, принятой у ветеранов-огнепоклонников новым поколением исследователей.
Хрупкая колба с фосфорными парами, взорвавшая канонизированные догмы в химической кинетике…
Грубая паяльная лампа, превращенная Цандером в первый опытный реактивный мотор. Как далеки они и как близки! «Отвлеченное теоретизирование» ученых и предметные поиски инженеров слились в единый поток, выплеснувшийся жаркими огнедышащими струями из дюз могучих космических ракет.
Концепции семеновского направления сыграли огромную роль в той революции, которая преобразила химию, поставив ее на твердый электронно-квантовый фундамент.
Впитав живительные соки атомной физики, учение Семенова вернуло ей долг «с процентами». Оно предвосхитило кардинальнейшую идею, которая легла впоследствии в основу ядерной энергетики. В самом деле: советские исследователи еще в начале 30-х годов установили, что самовоспламенение бывает двух, и только двух, типов — тепловое и цепное. Когда через много лет мир узнал о ядерных взрывах, оказалось, что они, по существу, имеют те же две разновидности! В водородной бомбе для слияния легких элементов нужно их сильное разогревание. В атомной оно ни к чему, хотя энергетические характеристики частиц (нейтронов) и здесь имеют свое значение.
Главное же — деление тяжелых элементов происходит по схеме разветвленной цепи, причем нейтроны, как и радикалы, способны утрачивать свою активность, правда, не на стенках сосуда, а на поглощающих стержнях. Впрочем, если ввести в колбу с горючей (например, водородно-кислородной) смесью металлические или иные палочки, то химические цепи также будут обрываться на их поверхности. Что касается атомного котла, то в нем тоже наблюдаются типичные предельные явления — критические концентрации и размеры. Формальная аналогия?
Нет, химическая теория горения и взрывов не была случайным двойником ядерно-физических построений; она подготовила для них почву. И неспроста именно Зельдович и Харитон, представители славной семеновской когорты, еще в 1939–1941 годах одними из первых нарисовали количественную кинетическую картину цепного ядерного распада…
Как видно, химическая физика имеет прямое отношение к ракетному двигателю и к ядерному реактору — во всяком случае, к протекающим в них процессам. И вообще работы Н. Н. Семенова, его сподвижников и учеников охватывают собой, своими приложениями, почти все фундаментальные разделы химии — неорганической, органической, биологической. Пожалуй, ни один другой химический институт в мире не имеет столь широкой, столь разносторонней проблематики, как тот, которым руководит академик Семенов. Но вся деятельность большого коллектива пронизана единой направляющей мыслью.
Читать дальше