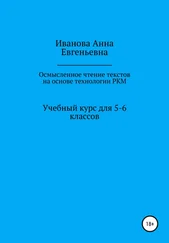Беккет осознавал опасность подобного размывания границ слова и мира; еще в 1937 году, в письме к своему немецкому знакомому Акселю Кауну, он ставил перед собой задачу «проделать дырки» в толще языка, так, чтобы почувствовать молчание, которое скрывается за ней:
Будем надеяться, что придет время, а может быть, в неких кругах бытия оно, слава Богу, уже пришло, когда язык будет использоваться наиболее эффективным способом, в то время как до сегодняшнего дня он использовался способом наименее эффективным. Поскольку мы не можем устранить язык за один раз, мы должны, по крайней мере, сделать все, что бы могло опорочить его. Проделать в нем дырки, пока то, что скрывается за ним — будь это нечто или ничто, не начнет сочиться, — я не могу себе представить более благородной задачи для современного писателя. <���…> Прежде всего, речь может идти лишь о поисках такого метода, который позволил бы выразить издевательское отношение к языку средствами самого языка. Именно в диссонансах между средствами и их использованием, вероятно, можно будет уловить шепот музыки конца и того молчания, которое является основой Всего.
На мой взгляд, последняя работа Джойса [199]не имеет ничего общего с подобного рода программой. Это скорее апофеоз слова, если только Вознесение и Нисхождение в ад не являются одним и тем же. Было бы здорово верить, что так оно и есть [200].
Надо сказать, что Беккету удалось выполнить поставленную задачу: тексты 1970-х и 1980-х годов («Опустошитель», «Курс на худшее», «Недовидено недосказано») обретают удивительную ясность, отстраненность, объективность, напоминающие абстрактность математических формул.
Хармс также задумывался над тем, чем его метафизико-поэтические воззрения отличаются от взглядов других писателей и поэтов. Если своими учителями он считал Введенского, Хлебникова и Маршака ( Дневники, 449), то к футуристам и заумникам относился гораздо более сдержанно. В 1927 году, в предисловии к так до конца и не составленному сборнику «малодоступных стихов» «Управление вещей», Хармс призывает читателя: «<���…> прежде чем отнести меня к футуристам прошлого десятилетия, прочти их, а потом меня вторично» ( Дневники , 538). В следующем году появляется декларация «ОБЭРИУ», в которой реальное искусство объявляется антиподом зауми:
Нет школы более враждебной нам, чем заумь. Люди реальные и конкретные до мозга костей, мы — первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка [201].
Если Беккет мечтает о том, чтобы «опорочить» язык, обэриуты, напротив, намереваются создать язык новый, «чистый». Однако ни то ни другое недостижимо, если предварительно не разорвать ткань языка, опутывающего мир, не «проделать в нем дыры», через которые будет «сочиться» то, что Беккету кажется тишиной, молчанием, а Хармсу — чистым бытием, «первой реальностью». Иными словами, первой стадией редукции языка будет стадия разрушения связей между объектами и словами, не отражающими, по мнению обоих писателей, сущности этих объектов. В «Сабле» Хармс называет речь, сбросившую тяжесть предметного мира, «свободной от логических русел» ( Псс—2, 299).
Процесс «отклеивания» слов от предметов подробно описывается в беккетовском «Уотте», романе-инициации, в область вневременных сущностей.
Уотт предпочитал, в конечном счете, иметь дело с вещами, имен которых он не знал, хотя и страдал от этого, чем с вещами, имена которых, уже вошедшие в обиход, переставали быть таковыми. Так он всегда мог надеяться, что, даже не зная имени вещи, он сможет однажды узнать его, а значит, успокоиться. Но если речь шла о той вещи, настоящее имя которой вдруг, а может быть и постепенно, прекратило для него быть настоящим, то на такую вещь возлагать надежды он был не в состоянии. Так, горшок всегда и для всех, кроме него, был горшком, — Уотт был в этом уверен. Только лишь для него одного горшок не был больше горшком, ну просто ни в малейшей степени не был горшком.
(Уотт, 82)
Конец порядка, поддерживаемого авторитетом Отца, есть начало свободы от ложных связей бытия, свободы, которой Уотт не желает, иначе чем еще можно объяснить его попытки превратить «старый беспорядок в слова», сделать себе «подушку из старых слов» ( Уотт, 120). Но как будто какая-то невидимая рука толкает его к отказу от псевдо-я и к погружению в пучину бессознательного, путь к которому лежит через возвращение в материнское лоно. В искусстве восстание против отцовской власти находит свое выражение в отказе от следования традиции, как об этом свидетельствует следующий пассаж из не публиковавшегося при жизни Беккета романа «Мечты о женщинах, красивых и средних»:
Читать дальше