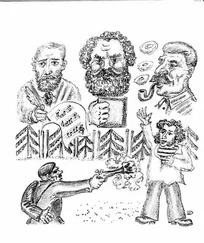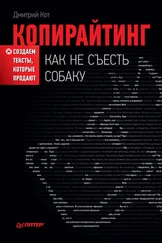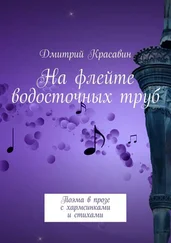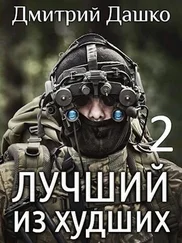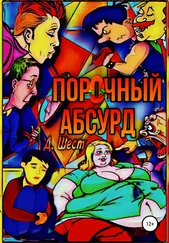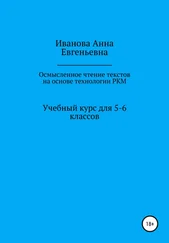Я мог бы, хотя обман тут больше, и далее, как это принято, наделять лицо прохожей отдельными чертами, в то время как вместо носа, щек и подбородка на нем ничего не должно быть, кроме пустой породы, на которой, самое большее, играет отсвет наших желаний, — заявляет Марсель, размышляя о своем литературном проекте [183].
Для обэриутов, так же как и для Беккета, желание освоить и подчинить себе иррациональное неприемлемо; в конечном счете оно оборачивается стремлением наделить иррациональное смыслом, объяснить его, или, как говорит сам Пруст в письме к Леону Доде, совершить «наивысшее чудо пресуществления иррациональных свойств материи и жизни в человеческие слова» [184]. И Пруст, и обэриуты стремились проникнуть в суть реальности, но для русских поэтов ей достижение возможно лишь путем созерцания алогического, попытка же объяснить иррациональное может переродиться в поиски «все равно какого смысла в ущерб смыслу истинному» ( Уотт, 75). Согласно Хармсу и Введенскому, задача художественного творчества, которое, кстати, обладает у них той же метафизической ценностью, что и у Пруста, состоит в том, чтобы «поднять» человеческие слова на уровень алогического и сделать из них слова божественные. Божественные слова ничего не объясняют и ничего не описывают, в них просто отражается реальность Рая. В этой перспективе желание реконструировать прошлое и обрести тем самым целостность личности, утерянную в потоке времени, уступает место последовательному очищению бытия в его восхождении к божеству, своеобразной «декортикации», удалению наслоений, привнесенных временем, — вот почему прошлое по большому счету не интересует обэриутов [185].
Подобного рода очищение находит символическое выражение в пьесе Беккета «Последняя лента Крэппа», где Крэпп, очищая от кожуры банан — символ мужской силы, — избавляется от своей сексуальности и от своего прошлого, когда он еще надеялся стать писателем и завоевать любовь женщин. «Только что прослушал кретина, каким выставлялся тридцать лет назад, даже не верится, что я когда-то был такой идиот. Слава Богу, с этим со всем покончено», — говорит он ( Театр, 220). В своей статье, многозначительно озаглавленной «Крэпп — анти-Пруст», Розетт Ламон замечает:
Склонившись над своим магнитофоном, этот близкий к смерти старик осуществляет целую серию убийств, которые на самом деле являются самоубийствами; он убивает прошедшее, а значит, последовательные изменения своего «я» [186].
Только убивая прошедшее можно приблизиться к смерти как к событию, разрушающему темпоральность.
К сопоставлению Беккета и Пруста прибегает в своей работе и Маргарита Франкель. Она сравнивает два отрывка: первый принадлежит Прусту и содержит описание сцены в лифте, когда мальчик-лифтер никак не реагирует на попытки рассказчика заговорить с ним [187]. Второй — эпизод из романа «Моллой», в котором рассказывается о встрече Моллоя с пастухом и о том, что Моллою так и не удается получить ответа на заданный им пастуху вопрос. При этом Моллою кажется, что пастух не отрываясь смотрит на него. По мнению Франкель,
Беккет тратит значительно меньше усилий, чем Пруст, на то, чтобы постараться понять молчание пастуха: для него иррациональное реально, и поэтому бессмысленно пытаться устранить его. И конечно же, у Беккета эта сцена еще более абсурдна, чем у Пруста, поскольку очевидно, что пастух не только не слышал вопроса Моллоя, но и не заметил самого беккетовского героя, как если бы Моллой не существовал или был невидим, что, кстати, для Беккета одно и то же [188].
Поведение пастуха напоминает ступор, в который погружен господин Эндон из психиатрической клиники Марии Магдалины: оба они не воспринимают окружающую действительность, выключены из временной последовательности бытия, вот почему их поведение надо называть не абсурдным, а алогичным. Если Эндон уже вплотную приблизился к небытию, то для остальных персонажей французского писателя путь к «подлинной» смерти лежит через обретение подлинного «я», неподвластного «лжи ума-обманщика» ( Моллой , 27). С этой точки зрения, стремление дать событию связное объяснение ведет лишь к еще большей путанице, к погружению в пучину ничего не значащих слов, из которой невозможно выбраться:
Фактом кажется то, — говорит Безымянный, — если в моем положении можно говорить о фактах, что я не только собираюсь говорить о предметах мне неизвестных, но также и то, что еще интереснее, но также и то, что я, что, на мой взгляд, еще интереснее, что я должен буду, не помню что, да и не важно. При этом я вынужден говорить. Молчать я не буду. Никогда.
Читать дальше