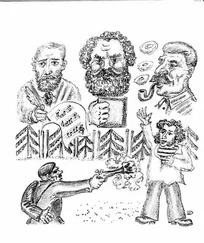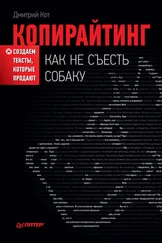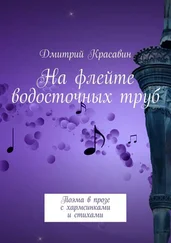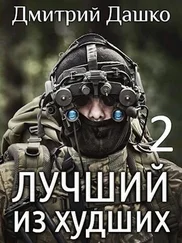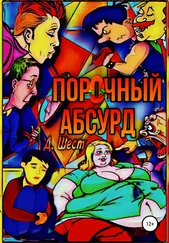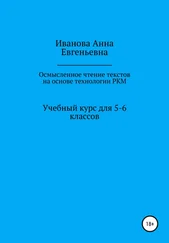Малевич К. Супрематизм. 34 рисунка // Малевич К. Живопись. Теория / Под ред. Д. В. Сарабьянова, А. С. Шатских. М., 1993. С. 232.
Хармс Д. Жизнь человека на ветру. С. 449.
Там же. Хотя характеристики всех членов «ОБЭРИУ» написаны Заболоцким, вряд ли имеет смысл подвергать сомнению их точность: скорее всего, Заболоцкий сверял их содержание с каждым из членов объединения.
Интересно, что среди перечисленных Хармсом объектов находятся две пары, один из членов которых выражен существительным с конкретным значением: шар и часы, а другой — с абстрактным: круг и, соответственно миг.
Особо стоит отметить появление среди летящих объектов точки, часов, матери, шара, круга и мига. Наконец, полетели и части тела, то есть полетели мы сами.
В трактате «Сабля» рождение рифмы также возвещается звуком — гулом строки-трубы.
См.: Юнг К.-Г. Психология переноса. С. 148, 190.
Хармс сознательно меняет в слове «звенеть» букву «е» на букву «и»; см. об этом далее.
Хармс Д. Жизнь человека на ветру. С. 448–449.
Там же. С. 448.
Там же.
Там же.
Хармс Д. Жизнь человека на ветру. С. 447.
Его выдвигает Ж.-Ф. Жаккар ( Жаккар, 197). Далее, однако, исследователь цитирует воспоминания Игоря Бахтерева, согласно которым директор Дома печати Николай Баскаков потребовал от будущих обэриутов отказаться от названия «Левый фланг», которое приобрело в то время излишнюю политическую окраску; тем не менее члены движения все-таки сохранили прилагательное «левый» в тексте своей декларации. Баскаков был вскоре обвинен в троцкизме и арестован.
Что касается Вагинова, то он не использовал заумь в своем творчестве. Вообще, Вагинов входил одновременно в несколько литературных организаций и был наименее «обэриутским» из членов «ОБЭРИУ».
Корень «взир», по-видимому, является трансформацией либо слова «визирь» (тогда султан — это Туфанов), либо слова «взирать».
Бахтерев И. Когда мы были молодыми // Воспоминания о Заболоцком. М., 1977. С. 65–66.
См. написанный Хармсом «Утверждающий Манифест» организации: Дневники , 444. Я проанализировал его в статье «Даниил Хармс: философия и творчество» (С. 83–84).
Поляков М. Я. Хлебников: мировоззрение и поэтика // Хлебников В. Творения. М., 1987. С. 23.
Туфанов А. Освобождение жизни и искусства от литературы // Туфанов А. Ушкуйники. С. 164.
Туфанов А. К зауми: Фоническая музыка и функции согласных фонем. Пг., 1924. С. 8.
Туфанов А. Заумный орден // Туфанов А. Ушкуйники. С. 178.
Хармс серьезно интересовался искусством декламации (см.: Дневники , 433).
Крученых А. Фактура слова. М., 1923 (без пагинации).
Крученых А. Сдвигология русского стиха. М., 1923. С. 16.
Крученых А. Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Леонова, Бабеля, А. Веселого и др. М., 1925. С. 12.
Александров А. Материалы Д. И. Хармса в рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 72.
Поляков М. Я. Хлебников: мировоззрение и поэтика // Хлебников В. Творения. С. 22.
Хлебников В. Наша основа // Хлебников В. Творения. С. 626.
Крученых А. Декларация слова как такового // Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. М., 1923. С. 44.
Согласно Хлебникову, отдельные звуки суть «звуковые очереди — ряд проносящихся перед сумерками нашей души мировых истин» (Хлебников В. /О стихах/ // Хлебников В. Творения. С. 634). «Надо пройти путь очищения (Perservatio, Katarsis). Надо начать буквально с азбуки, т. е. с букв», — записывает Хармс в 1933 году ( Дневники , 474). Интересно, что Леонид Липавский упрекал Хлебникова за то, что тот не смог сделать правильных выводов из своих открытий: «Он первый ощутил время как струну, несущую ритм колебаний, а не как случайную и аморфную абстракцию. Но его теория времени — ошибки и подтасовки. Он первый почувствовал геометрический смысл слов; но эту геометрию он понял по учебнику Киселева. На нем навсегда остался отпечаток провинциализма, мудрствования самоучки. Во всем сбился он с пути и попал в тупик. И даже стихи его в общем неудачны» ( Чинари—1 , 187).
Читать дальше