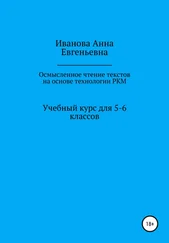Это погружение чрезвычайно опасное, прежде всего для авторской индивидуальности, но и чрезвычайно захватывающее, не случайно Беккет, закончив изматывающую работу над романом «Как есть», садится за его английскую версию. И так повторяется фактически с каждым произведением. Слово перестает быть орудием писательского труда и становится той экзистенциальной «грязью», по которой с трудом передвигается писатель, замкнувшийся в своем бессилии и неведении.
Нечто похожее происходит и в трактате Даниила Хармса «Мыр» (1930), в котором единство мира и «мы» эксплицируется самой графической формой слова. «Я говорил себе, что я вижу мир. Но весь мир был недоступен моему взгляду, и я видел только части мира», — так начинается этот текст ( Псс—2, 307). Наблюдая части мира, и в особенности те из них, которые могли думать, то есть других людей, Хармс «делает науку», что не может не внушать ему отвращения. Но неожиданно Хармс перестает их видеть, и его охватывает страх, как бы мир не рухнул:
Но тут я понял, что не вижу частей по отдельности, а вижу все зараз. Сначала я думал, что это НИЧТО. Но потом понял, что это мир, а то, что я видел раньше, был не мир.
(Псс—2, 308)
По сути, Хармс применяет здесь метод расширенного смотрения. Неудивительно, что мир в результате данной операции перестает быть умным или неумным: прежние понятия не подходят больше миру, взятому в своей целостности. Момент озарения, однако, не длится долго:
Но только я понял, что вижу мир, как я перестал его видеть. Я испугался, думая, что мир рухнул. Но пока я так думал, я понял, что если бы рухнул мир, то я бы так уже не думал. И я смотрел, ища мир, но не находил его. А потом и смотреть стало некуда.
(Псс—2, 308–309)
В действительности мир не рухнул, его присутствие лишь перестало быть явным, как неявно существование неорганической, гомогенной субстанции. Этот аморфный мир — не что иное, как сам поэт, поглотивший внешний мир и превратившийся во всеобъемлющее, «универсальное» существо.
Тогда я понял, — говорит он, — что покуда было куда смотреть — вокруг меня был мир. А теперь его нет. Есть только я. А потом я понял, что я и есть мир.
(Псс—2, 309)
Хармс расширяется до размеров беккетовского Безымянного, и это расширение ведет, в частности, к потере зрения: Хармс перестает быть наблюдателем внешнего мира и становится наблюдателем себя самого, а для этого глаза просто не нужны. Вывод, который делает Хармс, не слишком утешителен: «Но мир — это не я. Хотя, в то же время, я мир». Ж.-Ф. Жаккар замечает, что субъект тем самым вбирает в себя мир, но при этом приближается к нулю небытия [525]. По мнению М. Ямпольского, Хармс, напротив, желает показать своим парадоксом, что коль скоро он не исчезает, то он не един с миром и как-то ему противопоставлен ( Ямпольский , 173). Однако возникает вопрос: если поэт остался один, если он — это мир, то есть ли тогда что-то, что находится вне его? Весь трагизм хармсовского удела состоит в том, что поэт, увеличившись до пределов Вселенной, потерял свою индивидуальность; мир, которым он стал, — мир безличный, безымянный. Поэт растворяется в неорганической основе мира, о чем свидетельствует последняя фраза его текста: «И больше я ничего не думал» ( Псс—2, 309).
Морис Бланшо, стремившийся к тому, чтобы достичь эйфорического состояния «гула» языка, напишет в 1957 году в повести «Последний человек»:
Сам Бог нуждается в свидетеле. Божественному инкогнито нужно пробиться на этот свет. Когда-то я долго пытался представить, каким быть его свидетелю. Я чуть не заболевал при мысли, что свидетелем этим, чего доброго, придется стать мне — тем существом, которое не только должно ради цели добровольно устраниться из самого себя, но и устраниться, уже ничего не ради, и из цели, пребывая столь же замкнутым, столь же неподвижным, как и придорожный знак. Много времени, суровое и мучительное время провел я, дабы самому почти что уподобиться дорожному знаку. Но медленно — внезапно — забрезжила мысль, что этой истории не было свидетеля: я был там — и «я» уже становилось не более чем «Кто?», несметным полчищем этих «Кто?» — чтобы между ним и его судьбой никого не было, чтобы лицо его осталось обнаженным, а взгляд неразделенным [526].
Фигурально выражаясь, Хармс становится в тексте «Мыр» тем самым придорожным знаком, который замкнут на самом себе, «автореферентен», поскольку указывает на им самим выполняемое действие. В этом отношении он подобен так называемым перформативным глаголам, в которых, как разъясняет Барт в статье «Смерть автора» (1968), «акт высказывания не заключает в себе иного содержания (иного высказывания), кроме самого этого акта <���…>» [527]. Автор, говорит Барт, должен умереть, превратиться в скриптора, у которого нет «никакого бытия до и вне письма»; «остается только одно время — время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас» [528]. Хармсовский «Мыр» демонстрирует нам, насколько мучителен процесс отмирания авторской воли, процесс, приводящий в конце концов к растворению автора в тексте, к превращению его в свидетеля себя самого, своего собственного потерявшего определенность бытия.
Читать дальше