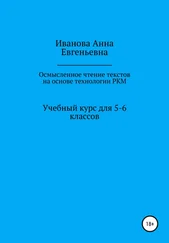(Сартр, 135; курсив мой [442])
Закономерно, что вязкость мира-в-себе неразрывно связана для Сартра с сексуальностью:
Неужели я буду?.. ласкать на расцветшей белизне простыней белую расцветшую плоть, которая тихо клонится навзничь, — с ужасом думает Рокантен, — буду касаться цветущей влаги подмышек, жидкостей, соков, цветения плоти, проникать в чужое существование, в красную слизистую оболочку, в душный, нежный, нежный запах существования и буду чувствовать, что я существую между мягких, увлажненных губ, губ красных от бледной крови, трепещущих губ, разверстых губ, пропитанных влагой существования, увлажненных светлым гноем, буду чувствовать, что я существую между сладких, влажных губ, слезящихся, как глаза?
(Сартр, 107) [443].
Характерно, что при чтении такого типичного для заумной поэзии стихотворения, как «Sôol’af» («Весна») Александра Туфанова, стихотворения, целиком составленного из нечленораздельных звуков, возникает именно ощущение упругой, расплывчатой неорганической массы. Туфанов в своих поисках стремился приписать каждому звуку специфическую функцию: «вызывать определенные ощущения движения». Однако при такого рода движении происходит, как говорит Липавский,
смазывание его очертаний — от незаметного до такого, когда предмет превращается в мутную серую полосу. Это смазывание очертаний предмета происходит от того, что мы не успеваем фиксировать его точно, крепко держать его глазами.
(Чинари—1, 91)
Отсюда, как реакция на потерю предметами стабильности, и возникает знакомое официанту из «Нади» состояние головокружения:
Головокружение и состоит в ослаблении, колебании фиксации, смазывании очертаний, которое и создает ощущение движения, хотя самого характерного и необходимого для ощущения движения налицо нет, — «неподвижное движение». Почти то же ощущение можно получить, глядя на отражение в текучейводе: тут тоже смазывание очертаний без перемещения их.
(Чинари—1, 91; курсив мой [444]).
В результате мы наблюдаем растекание мира, получившее свое выражение в заумной поэзии:
Мир был зажат в кулак, но пальцы обессилели, и мир, прежде сжатый в твердый комок, пополз, потек, стал растекаться и терять определенность.
(Чинари—1, 92)
Неприязнь к открытым сплошным пространствам, объясняет Липавский, напрямую связана с «боязнью безындивидуальности»: человека пугают однообразные водные или снежные пустыни, большие оголенные горы, степи без цветов, синее или белое небо, слишком насыщенный солнцем пейзаж ( Чинари—1, 79). Беккет как будто иллюстрирует данное положение, помещая своих героев то на голую равнину («В ожидании Годо»), то на берег бескрайнего моря («Зола»), то на скалу где-то между небом и морем («Скала»). Здесь не определить направление движения, а понятия «лева» и «права», севера и юга становятся лишь повествовательными фикциями:
Небо, о нем… небо и земля, о них я много слышал, — говорит герой «Никчемных текстов», — это действительно так, я ничего не придумываю. Я записал, вынужден был записать множество историй, в которых они играли роль декораций, создавали атмосферу. Они смыкаются вокруг героя, образуя большой разрыв в том самом месте, где он находится, так что он как будто накрыт колпаком, имея возможность перемещаться до бесконечности во всех направлениях, умный поймет, это не входит в мою компетенцию [445].
«Время стало пространством» [446], — говорится в другом «никчемном» тексте, но если пространство бесконечно и не поддается оценке, то таким же неопределимым становится и время. Время движется, но не вперед, а на месте, «что-то идет своим чередом» ( Театр, 140), но никогда не достигает финальной точки: это феномен «неподвижного движения», о котором упоминал Липавский. Наступает «время Никогда» [447], время остановленного мгновения.
Я в углублении, которое вырыли века непогоды, я лежу лицом вниз на коричневатой земле со стоячей, медленно впитывающейся, шафранного цвета водой [448], — констатирует беккетовский персонаж.
«Это сплошная вода, которая смыкается над головой как камень», — добавил бы Леонид Липавский ( Чинари—1, 79). Стоячая вода растворяет время, выбраться из нее почти невозможно: «<���…> пока что я здесь, извечно, навсегда» [449], — вынужден признать рассказчик «Никчемных текстов». Он балансирует на границе жизни и смерти и, чтобы преодолеть ее, пытается «заговорить в будущем времени» и вновь запустить тем самым часовой механизм. Однако он терпит неудачу, и ему ничего не остается, как вернуться к прошедшему времени. Там, где больше нет будущего, но только прошедшее, ставшее настоящим, попытка самоубийства оборачивается лишь бесконечным погружением в трясину остановившегося времени [450]. Чей-то голос повторяет в бреду:
Читать дальше